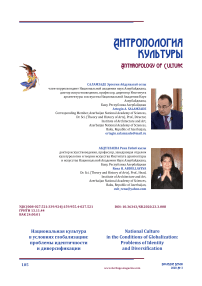Национальная культура в условиях глобализации: проблемы идентичности и диверсификации
Автор: Саламзаде Эртегин Абдулвагаб Оглы, Абдуллаева Рена Габиб Кызы
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Антропология культуры
Статья в выпуске: 3 (23), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено разработке модели, характеризующей внутренний баланс национальной культуры, функционирующей в условиях глобализации между противоположными полюсами идентичности и диверсификации. Материалами послужили исследования азербайджанских и российских философов, культурологов и искусствоведов, произведения художников ХХ в. В процессе исследования на основе принципа бесфоновой организации изобразительных форм (БОИФ), разработанного Х. Мамедовым и С. Дадашевым, визуализирована мультикультурная модель. Отмечено, что язык БОИФ обладает свойствами комплементарности и полиэйконичности, то есть бесконечно интегрирует элементы в систему. Модель устойчива и структурно отражает идеи мультикультурализма. Комплементарность организует внешние формы культур, не затрагивая их содержания, что отвечает формуле «моя свобода заканчивается там, где начинается ваша». Баланс внутри национальной культуры достигается кристаллизацией этнических особенностей и внутренним разнообразием системы.
Идентичность, диверсификация, национальная культура, мультикультурная модель, визуальный язык, бесфоновая организация изобразительных форм, комплементарность, симметрия
Короткий адрес: https://sciup.org/170174874
IDR: 170174874 | УДК: [008-027.521:339.924]:159.955.4-027.521 | DOI: 10.36343/SB.2020.23.3.008
Текст научной статьи Национальная культура в условиях глобализации: проблемы идентичности и диверсификации
Введение. Проблема существования национальных культур в условиях глобализации содержит целый комплекс актуальных вопросов, изучаемых различными гуманитарными дисциплинами. Однако некоторые ее аспекты остались за пределами внимания специалистов. Речь идет об эффективной модели этнокультурного взаимодействия внутри мультикультурного общества. Поэтому целью настоящего исследования является разработка модели, обеспечивающей баланс внутри национальной культуры, действующей между полюсами идентичности и диверсификации. Общественная значимость работы сводится к тому, что предложенная модель может быть использована при формировании государственной культурной политики в мультикуль-турных обществах. Исходным положением для разработки обсуждаемой модели послужили идея Л. Гумилева о симбиозе культур, принцип бесфоновой организации изобразительных форм (БОИФ) Х. Мамедова и С. Дадашева, а также результаты, полученные Г. Иванченко при изучении принципа необходимого разнообразия в культуре, и, наконец, итоги анализа культурной идентичности в проектной деятельности, опубликованные Н. Ковешнико-вой. Методология основана на компаративном подходе, использующем аналогии и параллели; конкретным инструментом исследования выступает сравнительный метод. Научная новизна и значимость работы определяются тем, что впервые предложена мультикультур-ная модель, сконструированная с помощью принципов организации форм изобразительного искусства.
Основная часть. Усложнение картины сохранения и развития национальных культур в условиях глобализации стало общим местом культурологических работ начала XXI в. Противопоставляют глобализм и традиционализм, поликультурность и идентичность. Так, может быть, прав был О. Шпенглер, около ста лет назад утверждавший, что культуры непроницаемы друг для друга и что всегда «феномен других культур говорит на другом языке» [10, с. 155]?
Все свидетельствует о том, что национальная культура оказалась запертой между идентичностью и полным растворением в глобальном мире. Вспомним и Л. Гумилева, который доказал, что отсутствие многообразия приведет к обнулению культуры как таковой [2, с. 181–182]. Причем речь идет не столько об этническом, расовом многообразии, сколько о диверсификации стереотипов поведения представителей различных национальностей. Однако в социально-биологической системе, которой является этнос, стереотип поведения — это исключительно культурный фактор, результат накопленного и транслированного социального опыта. Именно этот опыт позволяет идентифицировать, а значит, сохранять себя в окружающем мире.
Л. Гумилев исследовал и выводил закономерности теории этногенеза на материале истории прежде всего тюркских народов. В рамках обсуждаемой нами темы самой интересной особенностью тюркской культуры древности и раннего Средневековья была высокая степень толерантности. Эта черта позволяла древним тюркам не только аннексировать, но и надолго интегрировать гигантские территориальные и людские ресурсы в систему своей государственности. Гораздо позднее, в XIII в., идеи толерантности были зафиксированы в письменном документе Ясе (Джасаке) Чингисхана. Здесь от имени правителя самой большой в истории человечества империи (28 млн. кв. км) говорится: «Уважаю и почитаю всех четырех — Будду, Моисея, Иисуса, Магомета…» [8, с. 295].
Но через три-четыре поколения после Чингисхана гигантская тюркская империя ушла в историю. Ее погубила толерантность. Выходит, толерантность не является универсальным инструментом сохранения стабильности, она хороша на стадии создания больших этнокультурных общностей, но сильно хромает на этапе их фиксации, сохранения и дальнейшего развития. Вероятно, как и во многих других сферах биологического и социального развития, мы имеем дело с волновым процессом. Толерантность должна сменяться кристаллизацией идеалов новой общности.
На разных исторических этапах идеалы создаются на основе различных сфер культуры: религии, государственных, экономических или национальных интересов и т.д. Разумеется, мы не можем формулировать идеалы и приоритеты развития той или иной национальной культуры в рамках религиозных доктрин. Современной ситуации и культурологическому подходу больше соответствует создание определенных программ, нацеленных на национальные интересы.
Несмотря на то что термины «идентичность» и «идентификация» происходят от одного корня, их все же следует различать. «Идентичность — результат, отстаивание и защита себя, идентификация — приспособление, процесс постоянного выбора, принятие норм, традиций, установок» [6, с. 45]. Один из первых теоретиков идентичности, американский социальный психолог Э. Эриксон считал, что обладать идентичностью значит «ощущать себя неизменным независимо от ситуации» [6, с. 37]. Итак, идентификация — это процесс выбора, а идентичность — его результат.
Когда мы говорим, что группа людей или целый народ хочет себя идентифицировать, это означает, что они стремятся быть одинаковыми между собой и отличаться от других. Волей исторических судеб сегодня механизм идентификации призван разделить людей на своих и чужих. Идентичность предполагает собирание, концентрацию, кристаллизацию всех характерных особенностей данного этноса, народа, национальности. Иными словами, идентичность — это единообразие, сходство совокупности свойств тех или иных групп людей или отдельных культур.
Напротив, диверсификация — это разнообразие, несходство, различие и даже пестрота признаков в пределах той или иной системы, социальной либо биологической. Таким образом, идентичность и диверсификация являются еще двумя противоположными полюсами существования национальных культур в условиях глобализации.
Давно подмечено, что искусство, принадлежащее к внутренним слоям культуры, представляет собой «феномен культуры в предельно „чистом“ виде» [3, с. 172]. Искусство выступает в качестве определенной модели культуры, мерила состояния и уровня развития последней. Общие закономерности развития культуры очень часто примеряли на всю систему искусства в целом, на отдельные виды творчества или на конкретные историко-художественные тренды. Но никогда не происходило наоборот. Никто не пробовал объяснить или спрогнозировать культурные процессы с помощью моделей, построенных на основе искусства. Скажем то же самое, но другими словами: нам не известны попытки смоделировать культуру с помощью искусства.
Нами была предпринята попытка визуализации мультикультурной модели, но не с помощью графиков и схем, а на основе художественно-образного языка. Отправ- ной точкой здесь послужило такое явление, как кризис изобразительности в искусстве, стартовавший в начале XX столетия. В это же самое время на обширном географическом пространстве разразился глобальный кризис идентичности, ставший результатом распада всех империй, кроме Британской, по итогам Первой мировой войны.
Кризис изобразительности нашел отражение как минимум в трех художественных явлениях. Первое из них носило характер единичного акта: это «Черный квадрат» Казимира Малевича (1912), символизирующий смерть живописи, поскольку живопись есть цвет, а черный цвет — это отсутствие цвета. Данный акт соответствует отсутствию или отрицанию идентичности в культуре. Второе явление получило широкое распространение и хорошо известно нам как нефигуративное искусство, то есть искусство, размывающее объект изображения, фигуру. Его можно сопоставить с размыванием идентичности в культуре, сопровождающим процессы глобализации. Наконец, третье явление связано с поисками новых принципов организации изобразительного языка.
Эти поиски вошли в историю вместе с именем голландского художника Мориса Эшера и были направлены на собирание, кристаллизацию базовых приемов и методов создания изображения в искусстве. В своих произведениях Морис Эшер создает особую систему симметрии изобразительного языка.
Понятие симметрии в искусстве чаще всего рассматривается в сравнении с категорией пропорции. «Пропорция есть понятие равного, одинакового, однородного изменения. Симметрия есть понятие равного, одинакового, однородного строения, т. е. сохранения» [9, с. 7]. Симметрия, как и пропорция, является средством упорядочения изобразительного языка в искусстве. Подобно тому, как в живой и неживой природе симметрия выступает средством упорядочения самой жизни и информационных процессов. Иными словами, симметрия представляет собой фундаментальную основу визуального языка, определяющую и его синтаксис, и семантику, и прагматику. Причем это не зависит от видов симметрии — зеркальная, осевая и др.
Особый вид симметрии, примененный М. Эшером в его творчестве, был исследован азербайджанскими учеными Худу Мамедовым и Сиявушем Дадашевым. Они установили, что подобный принцип организации присущ различным кристаллическим структурам. Кроме того, оказалось, что характерный визуальный язык, основанный на обсуждаемом принципе, имеет давнюю традицию и довольно обширный ареал распространения, включающий географические пространства Крайнего Севера, Средней и Малой Азии, Азербайджана и др. [7, с. 7–10].
Исследованный этими авторами визуальный язык направлен на создание такого типа изображения, при котором фигура равна фону. Данный принцип был определен исследователями как бесфоновая организация изобразительных форм, сокращенно БОИФ. Свойствами такого типа изображения являются комплементарность (взаимодополняемость) и полиэйконичность (многоизобрази-тельность). При таких свойствах композиция, созданная на основе БОИФ, в любой момент может считаться завершенной и в любой точке может быть возобновлена и продолжена. Принцип БОИФ предполагает бесконечную интеграцию элементов в рамках целостной композиции. Нетрудно заметить, что рост системы, созданной на основе БОИФ, имеет исключительно горизонтальный характер и потому снимает вопрос об иерархии элементов. В определенном смысле снятым можно считать и аспект времени, поскольку система такого типа создает ситуацию «Вечного Сейчас».
Совершенно очевидно, что описанная система обладает стабильностью и устойчивостью. Но в то же самое время она не отрицает роста, расширения. А это очень привлекательные характеристики для модели социально-культурного развития. Полиэйко-ничность изобразительного языка выступает, несомненно, аналогом диверсификации культур, их многообразия. Этот принцип позволяет интегрировать в общую картину (систему) все новые и новые элементы (культуры). Причем их развитие и распространение не имеют ограничений ни во времени, ни в пространстве.
Комплементарность языка соответствует тем нормам и правилам, по которым культуры взаимодействуют друг с другом и на основе которых, собственно, и образуют единую целостность мультикультурного организма. Принцип комплементарности очерчивает контуры элементов (культур), организует их внешние формы, не затрагивая внутреннего содержания. Суть такого подхода замечательно выражается фразой: «Моя свобода заканчивается там, где начинается ваша».
Для подкрепления своей идеи отметим, что возможность влияния языка формообразования на типы и способы организации культуры недавно подмечена в других видах художественного творчества. Так, например, Наталья Ковешникова считает, что определенные культурные модели способен выдвинуть дизайн. По ее мнению, интернациональный стиль, распространившийся в дизайне XX века, представлял реальную угрозу обесценивания и фактического уничтожения «национального своеобразия, или этнокультурной идентичности предметного мира, окружающего современного человека» [5, с. 189]. Но уже в начале XXI столетия «проблемы культурной идентичности заняли одно из ведущих мест в сфере практического и теоретического развития проектной» [5, с. 190] деятельности. И тогда на первое место в дизайне вышла региональная проблематика, представленная специалистами из Японии, Италии, Финляндии. Этот процесс противостоит глобальным тенденциям стирания идентичности, подтягивает к себе весь организм национальной культуры в целом.
Справедливости ради надо сказать, что рассматриваемая нами проблема отчасти находила определенное освещение на общем философском, культурологическом уровне. Однако принцип необходимого разнообразия (диверсификации) в культуре исследовался в отрыве от проблемы идентичности. В работе Г. В. Иванченко возрастание разнообразия трактуется как глобальная тенденция. Здесь делается вывод о том, что «концепция разнообразия может эффективно использоваться при анализе взаимоотношений различных субкультур, их возникновения и развития» [4, с. 8]. Более того, разнообразие в человеческом сообществе выступает «экологическим императивом, требованием, связывающим возможность выживания с решением многообразных и сложных задач» [4, с. 13]. При этом «психика по своему разнообразию должна по меньшей мере не уступать многообразию сущего» [4, с. 14]. Однако, «разнообразие может быть связано с определенными этапами циклических процессов», где за так называемой «цветущей сложностью» следует упрощение, «смешение и выравнивание свойств и качеств культурных организмов» [4, с. 15]. Разумеется, подготовленный читатель за этими формулировками увидит закономерности теории этногенеза Л. Гумилева с ее чередованием подъемов и спадов пассионарности, а за спиной Л. Гумилева смену энтропийных и негэнтропийных процессов.
Заключение. Каково же в конечном итоге соотношение идентичности, разнообразия и как формула их взаимодействия может помочь построить работающую, действенную модель национальной культуры в условиях глобализации? Именно многочисленные идентичности субъектов культуры и составляют ее разнообразие. Построенная на принципах ком-плементарности и полиэйконичности система наиболее близка модели мультикультурализма. Согласовывая внутри себя идентичности различных субкультур и сообществ, своими внешними пазлами она обращена к остальному миру. Таким образом, язык культуры выступает матрицей национальной идентичности, а ее памятники — многочисленными формами выражения этой идентичности.
В ходе исследования компаративный анализ показал, что принципы организации этноса у Л. Гумилева и изображения у авторов БОИФ во многом совпадают. В обеих концепциях одним из ключевых понятий является «комплементарность». И здесь, и там активно работают дихотомии «фон и фактор» (Л. Гумилев), «фигура и фон» (БОИФ), слегка различающиеся терминологически. Поскольку описываемые названными терминами закономерности выведены независимо и на принципиально различном материале, можно предположить, что они имеют универсальный характер и для организации систем жизнедеятельности, и для «неживых» систем, которыми являются изобразительные формы. Это обстоятельство подтверждает действенность привнесенных из искусства конструкций для мо- делирования культуры и, в то же самое время, открывает дальнейшие направления исследований в культурологии и искусствознании.
National Culture in the Conditions of Globalization:
Problems of Identity and Diversification
Список литературы Национальная культура в условиях глобализации: проблемы идентичности и диверсификации
- Абдуллаева Р. Национальная концепция развития культуры // İncəsənət və mədəniyyət problemləri [Проблемы искусства и культуры]. 2011. №3(37). С. 107-111.
- Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М.: Экопрос, 1993.
- Ермакова Г. А. Искусствознание и культурология // Проблемы методологии современного искусствознания. М.: Наука, 1989. С. 159-176.
- Иванченко Г. В. Принцип необходимого разнообразия в культуре и искусстве: автореф. дисс. … д-ра филос. наук. М., 1999.
- Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. М.: Омега-Л, 2005.
- Кондаков И. В., Соколов К. Б., Хренов Н. А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
- Мамедов Х., Дадашев С. Черное - это белое. Бесфоновое искусство // Декоративное искусство СССР. 1988. № 8. C. 7-10.
- Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. Казань: Татарское кн. изд., 2008.
- Шевелев И. Ш. Принцип пропорции. М.: Стройиздат, 1986.
- Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993.