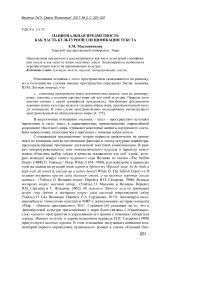Национальная предметность как часть культурной спецификации текста
Автор: Масленикова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Национальная предметность рассматривается как часть культурной спецификации текста и как один из видов текстовых лакун. Анализируются особенности переориентации текста на принимающую культуру.
Культура, текст, перевод, интерпретация, лакуны
Короткий адрес: https://sciup.org/146122037
IDR: 146122037 | УДК: 811.111''23
Текст научной статьи Национальная предметность как часть культурной спецификации текста
Отношения человека с «его» пространством складываются по-разному, но в большинстве случаев именно пространство определяет бытие человека. Ю.М. Лотман отмечал, что
«... семиотика пространства имеет исключительно важное, если не доминирующее, значение в создании картины мира той или иной культуры. Природа этого явления связана с самой спецификой пространства. Неизбежным фундаментом освоения жизни культуры является создание образа мира, пространственной модели универсума. В этом случае пространственное моделирование реконструирует пространственный же облик реального мира» [4: 275].
В аналогичные отношения «человек – текст – пространство» вступают переводчик и «его» текст, а характеристики, приписываемые определённой координате текстового мира, отражают некоторые аспекты внутреннего состояния переводчика, относящегося к оригиналу с позиции наблюдателя.
Сложившиеся традиционные теории перевода практически не принимают во внимание лингво-когнитивные факторы и этнокультурные параметры, предопределяющие протекание двуязычной текстовой коммуникации. В рамках литературоведческого или лингвистического подхода к переводу невозможно объяснить выбор забора в качестве эквивалента для wall ‘стена’, которую возводит вокруг своего чудесного сада Великан из сказки «The Selfish Giant» (1888) О. Уайльда / Oscar Wilde (1854–1900), или появление в переводах этой же сказки на русский язык ворот и брёвен из Чёрного леса: So he built a high wall all round it, and put up a notice-board (Wilde O. The Selfish Giant) ↔ И великан построил кругом сада высокую стену, а на входных воротах сделал надпись... (Уайльд О. Великан-эгоист. Перевод И.П. Сахарова, 1908); Великан построил вокруг высокий забор... (Уайльд О. Мальчик и Великан. Перевод П.В. Сергеева и Г. Нуждина, 2002); Из дальнего Чёрного леса он притащил целую гору брёвен и построил вокруг сада высокий непреступный забор (Уайльд О. Сад Великана. Перевод С.А. Гордиенко, 2013). Анализируя индоевропейскую этимологию константы МИР и дописьменную историю концепта «Мир – обжитое пространство», Ю.С. Степанов [6] указывает на то, что в древнерусской культуре представления о мире были связаны с ограниченностью «своего» пространства и укреплением его границ с помощью забора или ограды. Именно поэтому в дореволюционном переводе И.П. Сахарова (1908) присутствуют входные ворота. В этом отношении заслуживает внимания комментарий первого переводчика пушкинского романа в стихах «Евгений Оне- гин» (1823–31, полностью – 1833) Генри Сполдинга / Henry Joseph Spalding (1840–1907). О заборе (И вёрсты, теша праздный взор, / В глазах мелькают, как забор) Г. Сполдинг пишет, что верстовые столбы (verst posts) и заборы являются такой же частью национально-специфичного русского пейзажа, как milestone ‘камень с указанием расстояния’ и a graveyard ‘кладбище’ для английского пейзажа. По его мнению, русский забор напоминает американский palisade ‘частокол’ («Most Englishmen, if we were to replace verst-posts with for a palisade, would instantly recognize its Yankee extraction»).
Национальная предметность включает: дом, национальную еду, тело человека как «тело отсчёта» в национальном космосе, национальные телодвижения (танец и т.д.), национальную музыку, национальные игры, национальный зодиак (животные модели мира), национальные варианты пространства и времени, язык как голос национальной природы [2]. В случае двуязычной текстовой коммуникации национальную предметность можно признать одним из видов текстовых лакун, вызванных спецификацией самого текста, и именно его содержанием, формой, поэтикой и приёмами автора, жанром и типом читателя, для которого текст был предназначен [5].
Текст отражает в той или иной степени реальный или возможный мир или фрагмент этого мира: «экстралингвистический мир выступает в тексте как своего рода предмет, или тема, предлагаемая вниманию адресата, причём такой теме приписывается какая-то глобальная характеристика» [1: 48]. Развёртывание текста обеспечивает необходимую степень детализации экстралингви-стического мира. А.А. Леонтьев пишет, что читателю, как и любому реципиенту культурного артефакта, надо дать «вместе с произведением искусства определённую программу, позволяющую ему получить в процессе восприятия нечто максимально близкое тому, что в это произведение было вложено его автором» [3: 300]. Комментарий способен снять или значительно уменьшить степень непонимания текста, сокращая культурологическую дистанцию между ним и читателем, что становится важным при наличии пространственновременного барьера, разделяющего автора и читателя.
Рассмотрим особенности передачи национальной предметности в первых переводах басни И.А. Крылова «Демьянова уха» (1813).
В Европе одним из первых собраний басен И.А. Крылова стало двухтомное издание «Fables russes» [10; 11] с параллельным переводом 89 басен на французский язык и на итальянский язык, выпущенное в Париже на средства графа Г.В. Орлова (1777–1826). Представленные переводы не являются таковыми в полном смысле этого слова, так как участвующие в данном проекте лучшие писатели, поэты и баснописцы Франции и Италии работали по подстрочникам, подготовленным самим графом. В большинстве случаев переводы представляют собой вольное изложение содержания исходного текста, в них часто нарушается принцип эквилинеарности и не выдерживается строфика оригинала. Однако необходимо отметить попытки отдельных переводчиков сохранить своеобразные черты «русскости» оригинала. Французский перевод басни «Демьянова уха» принадлежит писательнице Sabine Casimire Amable Voïart (1795–1885), обычно публиковавшейся под псевдонимом Амабль Тасту / M-me Amable Tastu. В нём оставлена реалия sterled ( вот стерляди кусочек ), но при этом действующие лица Демьян и Фока были переименованы в Etienne и - 202 -
Jeannot , а уха становится обычным рыбным супом ( la soupe de poisson ). В переводе басни на итальянский язык «La zuppa di Menghino», подписанном итальянским графом Cte Brancia, указано волжское происхождение ( Volga ) рыбы sterletto и действуют Menghio и Foka . Этот же перевод вошёл в сборник басен, изданных в 1827 году итальянскими участниками проекта графа Г.В. Орлова [12]. Выбранное итальянское имя Menghio как уменьшительно-ласкательная форма имени Domenico можно признать соответствующим русскому имени Демьян : оно произошло от позднелатинского имени Dominicus ‘Господень, тот, кто принадлежит Господу’, а Демьян (церковная форма имени – Дамиан ) также имеет латинское происхождение, восходя к Damianus ‘посвящённый Дамии’.
В 1828 году в Москве выходит ещё одно издание басен И.А. Крылова [9], подготовленное учителем французского языка И. Маскле / Hippolyte Mas-clet (1778?-?). Кроме краткого обзора русской литературы в книгу вошли выполненные новые переводы басен, а также переводы из парижского издания графа Г.В. Орлова [10; 11]. В переводе басни «Демьянова уха» как «La Soupe à Timothée» из ингредиентов блюда упоминается только стерлядь ( Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек ↔ Encor de ce sterled, d’honneur, c’est excellent ). При этом высказывается предположение относительно причины, по которой сосед Thomas потел за столом: возможно, soupe au poisson ‘уха’ от гостеприимного хозяина Timothée оказалась отвратительной ( D’une soupe au poisson, peut-être détestable ). Покидая поспешно дом соседа, он хватает трость и шляпу ( Saisit sa canne et son chapeau ) и не прощается с хозяевами ( Et sans dire bonsoir, vers la porte s’élance ), нарушая тем самым правила вежливости.
В первую обзорную статью из журнала «Fraser’s magazine», посвящённую развитию жанра басни в России [17], её анонимный автор включил собственные переводы шести басен И.А. Крылова, но самый подробный комментарий касается басни «Демьянова уха». Переводчик считает, что именно эта басня, название которой передано как «The Soup» (буквально ‘суп’), позволяет понять причины, по которым в России любят басни И.А. Крылова: в них комизм ситуации смешивается с динамикой развития действия, а автор часто обращается к разговорным формам. Переводчик попытался объяснить суть и специфику блюда под названием Ukka или рыбный суп ( fish-soup ), называемого им национальным блюдом, необычность которого по вкусу и способу приготовления не позволяет правильно оценить вкусовые предпочтения русских. Он предупреждает читателя, чтобы, судя исключительно по тексту, тот не посчитал блюдо изысканным и не решил, что по вкусу оно напоминает суп из черепахи. Мораль басни «Демьянова уха» состоит, по мнению переводчика, в том, что не надо пытаться угощать своих гостей супом, приготовленным по иностранному рецепту, так как его вкус может вызвать чувство пресыщения («... although our own soup is prepared from a most approved foreign receipt, we will not insist upon their tasting another spoonful of it just now, at the imminent hazard of surfeiting them entirely»). Он пишет, что вкусовые привычки у разных народов отличаются, остроумно замечая, что некоторые считают немецкую капусту (German tauer kraut) настоящей амброзией. В соответствии с таким пониманием текста переводчик изменяет отдельные параметры представленной в нём ситуации. Герой басни Демьян угощает своего соседа не просто обычным супом , а очень редким блюдом ( Here’s quite a treat, / For soup like this
‘s a perfect blessing ), приготовленным по особому рецепту ( ‘Tis made from a most choice receipt ), от которого слюнки текут ( Does it not your palate suit! ). Однако переводчик не стал перечислять ингредиенты этого редкого блюда ( Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек ). В переводе гость не просто отказывается ( Соседушка, я сыт по горло ), но мотивирует свой отказ этикетной формулой, что «он уже пообедал» ( Thanks! I don’t doubt it is delightful. / But I have dined ). Переводчик сохраняет разговорность оригинала ( Нужды нет ↔ Nay , ей-же-ей ↔ Upon my word , И, полно, что за счёты ↔ Pshaw! ). Герой перевода сбегает из-за стола по причине вкусового непринятия поданного блюда. Отсутствует типично русское выражение почтительности через поклон ( Ещё хоть ложечку! Да кланяйся, жена! ). В данном контексте ( Вскричал Демьян. – Зато уж чванных не терплю / Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милой! ) прилагательное чванный имеет значение ‘ломливый’ (В.И. Даль). В переводе гостеприимный хозяин искушает гостя попробовать ещё ложечку лакомого блюда ( “Another spoonful! – let me tempt ye.” ). Для русского читателя имена собственные героев и реалия кушак указывали на происхождение героев, к тому же имя Демьян , было характерным преимущественно для крестьянской среды.
На обложке другого парижского издания басен И.А. Крылова их автор представлен читателю в качестве «русского Лафонтена» [15]. Переводчиком выступил крупный историк литературы Альфред Бужолт / Alfred Bougeault (1817–1893), занимавший должность профессора в Императорском Александровском лицее, а это бывший Царскосельский лицей, и в Инженерном корпусе (1847–1860). В комментарии к «La Soupe au Poissin de Damien» реалия передана через аналог ( La soupe au poisson ) и с помощью транслитерации ( en russe oukha ). Переводчик признаёт блюдо общенациональным и описывает способ его приготовления (C’est un potage sans pain fait avec différentes sortes de poissons cuits dans l’eau avec du beurre ‘для этого супа разные виды рыб готовятся в воде с добавлением масла’). Став настоящим французом по имени Damien , бывший Демьян , уговаривая своего соседа по имени Phocas , упоминает про сердце ( Cette soupe, ma foi, doit vous parler au cœur ) и про то, что невозможно пресытиться хорошим супом ( Un potage ainsi fait ne doit jamais lasser ). Этот перевод является самым точным с гастрономической точки зрения ( Comme il est grasl voyez cette couche onctueuse! / C’est de l’ambre fondu ! ne me refusez pas, / Cher ami. Cette brème est, je crois, savoureuse; / Ce morceau de sterlet a bien quelques appas ). Гостеприимный Дамиан из французского перевода не любит церемоний ( Moi, je hais la cérémonie ) и высокомерных людей ( Зато уж чванных не терплю ↔ Et les gens dédaigneux ne sont pas de mon goût ). От жены требуется просто настаивать, чтобы гость поел ( Et toi, ma femme, allons! presse a ton tour notre hôte ). Удачным оказался подбор практически полных эквивалентов для схваченных Фокой при побеге из гостей предметов одежды ( Схватя в охапку / Кушак и шапку ↔ Il saisit à deux bras son bonnet, sa ceinture ): bonnet ‘шапка’ и ceinture ‘ремень, пояс, кушак’.
Другой французский переводчик Чарльз Парфе / Charles Parfait оказался также гурманом, постольку при издании басен [8] он подробно остановился на описании рыбы стерляди, указав среду её обитания, вкус, размеры и качество получаемой из неё икры («Le sterlet ou petit esturgeon, assez peu connu dans nos contrées, est un poisson à chair grasse et d’un goût très-délicat, qui atteint par- 204 - fois la longueur d’un mètre. Il se trouve dans la mer Caspienne, dans la mer Baltique et dans le Volga. C’est avec ses œufs qu’on fait le meilleur caviar» ‘малоизвестная в нашей стране стерлядь или маленький осётр – это жирная рыба с очень нежным вкусом, достигающая размера до одного метра в длину, водится в Каспийском море, Балтийском море и Волге, а её икра – самая лучшая’). Что касается ухи, то, по заявлению француза, уха (или рыбный суп) популярна во всех классах русского общества. К сожалению, точных данных о личности переводчика найти не удалось.
Ч. Парфе оказался единственным из переводчиков XIX века, кто оставил русскую реалию в названии басни «L’oukha de Demiane» и в самом тексте. Он также точно следует списку ингредиентов для блюда ( Mais quelle oukha! comme elle est grasse! / On dirait qu’on a répandu / Sur son jus de l’ambre fondu! / Voyons, l’ami du cœur, vas-y de bonne grâce: / De la brème, en veux-tu? Des tripes, en voilà! / C’est du sterlet’, mon cher, ce petit morceau-là ). Имена героев Demiane и Phocas являются интернациональными соответствиями русским именам Демьян и Фока . Французский Demiane оказался очень эмоциональным в своих обращениях к другу, называя его не просто соседом ( Mon voisin ), а mon bijou ‘сокровище моё, золотой ты мой’ и mon cher ‘мой дорогой’, а в ответ на отказ отведать ещё ухи обвиняет его в мещанстве ( Et toi, la bourgeoise, holà ). Как настоящий европеец Phocas или Фока имеет трость ( Saisissant à deux mains chapeau, ceinture et canne ). Ч. Парфе отмечает, что из всех написанных И.А. Крыловым басен именно «Демьянова уха» является самой «русской» по духу («un petit tableau éminemment russe de couleur et de ton»), где показана ожившая колоритная картинка повседневной жизни простых людей с их словами и жестами («Paroles et gestes, tout y offre la plus pure saveur du terroir»). Переводчик считает, что представлена сценка из жизни русского купечества, которое отличается таким широким гостеприимством, что иногда оно напоминает тиранию («C’est bien avec cet empressement un peu tyrannique que la classe marchande offre l’hospitalité, et cela du meilleur cœur du monde»). Также приводится рассказ об обстоятельствах первого публичного прочтения басни автором в доме поэта Г.Р. Державина.
Книга басен И.А. Крылова «Krilof and his fables» [16] в прозаическом переводе У. Ральстона / W.R.S. Ralston (1828–1889) выдержала несколько переизданий (1871, 1883 и др.). У. Ральстон предпочёл fish soup ‘рыбный суп’ в качестве соответствия для ухи . В его «Demian’s Fish Soup» отсутствует вывод-мораль из заключительных строк ( Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь ...), но сообщается об обстоятельствах, сопутствующих первому публичному прочтению басни автором. Действующие лица названы Demian и Phocas . Хозяин просит жену просить гостя об одолжении ( Wife, come and entreat him ). Что касается предметов одежды, то одно из значений существительного sash, действительно, ‘кушак’ ( catching hold of his cap and sash ).
В 1874 году в Лейпциге выходит полное собрание басен И.А. Крылова [14], в которое вошли 197 басен из девяти книг и три его ранние басни. Переводчиком выступил немецкий писатель Фридрих Лёве / Friedrich Ferdinand Benedict Löwe (1809–1889), который долго прожил в Санкт-Петербурге (1836– 1848), где служил в библиотеке Академии наук, о чём сообщается на титульном листе (ehemaligem Bibliothekar an der St.-Petersburger Akademie der Wissen- schaften, aorrespondierendem Mitglied der Gelehrten ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat), а также сотрудничал в качестве журналиста с газетой «St. Petersburger Zeitung». В переведённой басне «Demjan’s Fischbrühe» (буквально ‘Рыбный бульон Демьяна’) хозяин угощает соседа по имени Phoka во имя дружбы (Вот друга я люблю ↔ Nun, das heiß’ ich Freundschaft doch), призывает на помощь жену (Nur ein paar Löffel noch – so hilf doch bitten, Frau), но не упоминает о чванных ‘ломливых’ гостях (Зато уж чванных не терплю). Немецкая die Mütze – это ‘шапка, фуражка’ (Greift er blitzschnell zum Gürtel und zur Mütze).
Переводы У. Ральстона подтолкнули проживающего в Санкт-Петербурге учителя английского языка Дж. Харрисона / John Henry Harrison также обратиться к басням И.А. Крылова [7]. В предисловии к своей книге переводов басен И.А. Крылова [13] Дж. Харрисон подчёркивает, что особую трудность для него представляла проблема сохранения русской национальной специфики басен и подбор соответствующих языковых средств: Соседушка, я сыт по горло ↔ Neighbour, I’m bursting quite ; Ушица, ей-же-ей, на славу сварена ↔ Real fishsoup, see what soup, done to a t . Ориентация на принимающую аудиторию привела к тому, что в его «Damian’s Fishsoup» изменился код поведения главных героев: жене велено не кланяться ( Да кланяйся, жена! ), а делать реверансы ( Wife, thy reverence make! ). События разворачиваются в гостиной ( Damian’s parlour ). Бывший Фока именуется Neddy , что является сокращённой формой от нескольких английских мужских имён – Edgar , Edmund , Edward , Edwin . Сбегая от гостеприимного хозяина, он хватает не кушак и шапку , а пальто, трость и накидку с капюшоном ( Seizing his coat , / Stick, and capote ). Если Демьян предлагает другу съесть уху во здравие ( А то во здравье: ешь до дна! ), то в переводе утверждается, что пищеварение необходимо для хорошего сна ( Digestion’s good for sleep, you see ).
Художественный текст транслирует национально-специфические составляющие конкретной лингвокультурной общности, её ценности, понятия, концепты, образы. Текст оригинала изначально закрыт для аудитории другой культуры в силу чисто языковых причин. Преодоление межкультурного барьера заключается в понимании и/или принятии (полном или частичном) «чужой» культуры. Переводчик пытается сделать «свой» текст максимально открытым, т.е. текстом - для - всех, для чего он упрощает систему авторских смыслов. Для принимающей культуры подобный «переведённый» текст становится текстом - интерпретацией, текстом - трактовкой или псевдо-переводом.
Список литературы Национальная предметность как часть культурной спецификации текста
- Богданов В.В. Текст и текстовое общение. СПб: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1993. 68 с.
- Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Издательская группа «Прогресс» -«Культура», 1995. 480 с.
- Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005. 365 с.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: «Искусство -СПб», 2000. 704 с.
- Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Опыт систематизации лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на понимание текста//Текст как явление культуры. Новосибирск: Наука, 1989. С. 103-162.
- Степанов Ю.С. Константы. М.: Академический проект, 2001. 990 с.
- Cross A. William Henry Leeds and early British responses to Russian Literature//People Passing Rude: British Responses to Russian Culture. Cambridge: Open Book Publishers, 2012. Pp. 53-68.
- Fables de Krilof. Paris: Henri Plon, 1867. 288 p.
- Fables de m. J. Krylof. Moscou: De L’Imprimerie D’Auguste Semen, Imprimeur De L’Academie Imper. Med.-Chirurgicaif, 1828. 270 p
- Fables russes. Paris, Bossange, 1825а. Vol. 1. 250 p.
- Fables russes. Paris, Bossange, 1825b. Vol. 2. 350
- Favole russe. -Perugia: Presso Bartelli e Costantini, 1827. 252 p.
- Kriloff’s Original Fables. London, Remington & co., 1883. 228 p
- Krylo?f’s sa?mmtliche fabeln. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1874. 264 S.
- Kryloff, ou, Le La Fontaine russe. Paris: Garnier fre?res, 1852. 107 p.
- Ralston W.R.S. Krilof and his fables. London, Strahan and Co., 1869. 180 p.
- Russian Fabulists, with Specimens//Fraser’s magazine for Town and Country. 1839. Vol. XIX. Pp. 153-163.