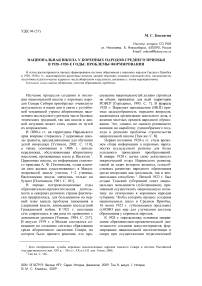Национальная школа у коренных народов Среднего Приобья в 1920-1930-е годы: проблемы формирования
Автор: Ковлягин Максим Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс формирования системы образования у коренных народов Среднего Приобья в 1920-1930-е гг., анализируются различные аспекты данной тематики: создание школьной сети, письменности, подготовка педагогических кадров из числа аборигенов и трудности, связанные с этими мероприятиями.
Школа, аборигены, система образования, проблема
Короткий адрес: https://sciup.org/14737014
IDR: 14737014 | УДК: 94
Текст научной статьи Национальная школа у коренных народов Среднего Приобья в 1920-1930-е годы: проблемы формирования
Изучение процессов создания и эволюции национальной школы у коренных народов Севера Сибири приобретает очевидную актуальность в наши дни в связи с устойчивой тенденцией утраты аборигенным населением исследуемого региона части базовых этнических традиций, так как школа в данной ситуации может стать одним из путей их возрождения.
В 1890-х гг. на территории Нарымского края впервые открылись 2 церковные школы грамоты, предназначенные для обучения детей инородцев [Устинов, 2002. С. 110], а также основанная в 1896 г. школа-передвижка, обслуживающая аборигенное население, проживавшее вдоль р. Васюган 1. Церковные школы, по информации станового пристава А. Ф. Плотникова, «едва влачили свое жалкое существование»: в Макси-мояровской школе училось 1–2 ученика, Васюганская школа значилась только на бумаге [Плотников, 1901. С. 101].
В первые постреволюционные годы образовательно-просветительская деятельность в северных регионах страны фактически прекратилась, для большевиков на первый план вышла проблема завоевания и удержания власти, ликвидации последствий Гражданской войны. К 1921 г. школьная сеть сократилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем [Увачан, 1984. С. 257]. В августе 1919 г. в Москве состоялось совещание по созданию системы образования среди аборигенного населения Севера, на котором было принято решение, что про- свещение национальностей должно строиться на общих принципах для всей территории РСФСР [Городенко, 1995. С. 7]. В феврале 1920 г. Наркомат просвещения (НКП) признал целесообразность передачи вопросов, касающихся организации школьного дела, в ведение местных органов народного образования. Это, однако, не оказало решающего влияния на выработку единообразного подхода в решении проблемы строительства национальной школы [Там же. C. 8].
Первая половина 1920-х гг. стала временем сбора информации о коренных народностях исследуемого региона для более успешного проведения преобразований. В январе 1920 г. начал свою деятельность инородческий отдел Нарымского ревкома, одной из задач которого являлось «способствовать развитию народного образования среди инородцев как школьным, так и внешкольным способом» 2. Весной 1923 г. был создан Томский губернский совет национальных меньшинств (губсовнацмен), призванный осуществлять национальную политику по отношению к коренным народам губернии. Чтобы ускорить процесс создания национальных школ в Среднем Приобье, 16 июня 1923 г. губсовнацмен предложил губОНО ряд мер для улучшения системы образования у коренных народов.
К 1924 г. определились основные направления образовательно-просветительской деятельности: создание школ-интернатов, формирование национальной интеллигенции и опора при осуществлении педагогической деятельности на национальные традиции. Однако эти мероприятия были либо не осуществлены, либо только начинали претворяться в жизнь. Одним из главных препятствий в деле создания системы образования в северных регионах Сибири, кроме недостаточного финансирования, неразвитой инфраструктуры и т. д., явилось отсутствие специального координирующего органа, проводившего национальную политику в отношении коренных народов Севера в масштабах РСФСР.
Для ее решения постановлением ВЦИК от 20 июня 1924 г. был сформирован Комитет содействия коренным народностям северных окраин при ВЦИК (Комитет Севера, КС) под председательством П. Г. Смидовича. Одной из задач, стоящих перед КС, явилась организация школьной сети для обучения аборигенов и обеспечения ее квалифицированными кадрами 3 .
Становление образования у коренных народов Севера осуществлялось в несколько этапов, первым из которых стало учреждение общеобразовательных школ. До 1926 г., по сведениям КС Томского округа, ситуация не менялась, систематического «туземного просвещения не было», школы, призванные обучать детей аборигенов, частично были заполнены русскими 4 . К 1926 г. на территории Нарымского края действовало 7 «туземных», 4 смешанные и 33 русские школы, количество учащихся составляло 1 920 чел. 5
В 1926 г. КС принял «Положение о школе малых народностей», где декларировались основные принципы организации школы и программ обучения, целью же просветительской работы ставился охват стабильно функционирующей школьной сетью коренного населения Севера Сибири 6 , основным типом школы в северных районах принималась школа-интернат 7 .
В деле снабжения школ учебными пособиями предусматривалось организовать работу по составлению для «туземных» школ букварей и книг по обучению в школе I ступени на аборигенном языке. Признавалось целесообразным издание учебников на русском языке, в программу подготовки педагогов аборигенных школ вводилось изучение «туземных» языков 8 . К 1927/28 уч. г.
школьная сеть Нарымского края, обслуживавшая коренное население, была представлена 10 школами I ступени, из которых две – Верте-Косская и Максимояровская – являлись интернатами, в которых обучалось 260 детей 9 .
Наиболее эффективно такого рода школы могли функционировать, как это предусматривалось «Положением о школе малых народностей», только в составе культбазы. Обычно школа основывалась в центральном пункте того или иного района, куда съезжались «туземцы» для обмена, снабжения и обсуждения общественных дел 10 . В первые годы в школу принимались дети в возрасте от 9 до 16 лет с последующим понижением возрастной планки и закрытием доступа в школу старшим возрастам. К 1930 г. на территории Нарымского края работало 4 школы-интерната [Нарымский край, 1932].
К 1933 г. число национальных школ возросло до 17, из них с интернатами 13, число учащихся достигло 672 чел., что составило около 30 % детей школьного возраста 11 . В 1934 г. впервые вводилось преподавание на родном языке в 6 школах 12 . На 1 января 1937 г. в Нарымском округе действовало 20 школ, в которых обучалось 900 детей, работали один «Красный чум», 11 изб-читален 13 .
В 1938 г. в названном округе насчитывалось 19 национальных школ, где обучались 1 186 детей аборигенов, две семилетние школы и школа повышенного типа с годовым интернатом и числом учащихся 90 чел., готовившая учеников к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения. Отличительной чертой деятельности системы народного образования в 1930-х гг. стало появление пунктов ликвидации безграмотности, в том числе и для аборигенного населения. К 1938 г. в Нарым-ском крае насчитывался 171 неграмотный и 234 малограмотных, все они обучались в школах для взрослых [Васильев, Малиновская, 2004].
Методы преподавания в национальных школах отличались от обычных общеобразовательных школ СССР. Программы Государственного Учебного Совета приспосабливались к бытовым, географическим и социально-экономическим особенностям народностей 14. Педагогическому персоналу аборигенных школ назначалась повышенная зарплата, сокращался срок выслуги лет для выхода на пенсию и т. д. 15
Для подготовки квалифицированных кадров открывались северные отделения в техникумах и рабфаках сибирских и дальневосточных городов. Подготовка кадров осуществлялась также в советско-партийных школах, Ленинградском институте живых восточных языков им. А. С. Енукидзе (ЛИЖВЯ), Дальневосточном университете и других высших учебных заведениях [Ува-чан, 1984. С. 80]. Заключительным актом оформления системы подготовки кадров из числа коренных народов Севера Сибири стало образование 4 февраля 1930 г. Института народов Севера (ИНС), организованного на базе Северного факультета (Севфак) при ЛИЖВЯ [Там же. С. 104]. В 1926–1930 гг. на Севфак от Томского КС для обучения были посланы 26 представителей аборигенного населения региона 16 . Но часть их потом возвратились домой по ряду причин. С целью недопущения отчислений студентов из ИНС Нарым-ский окрисполком запретил принимать студентов, отчисленных «по зависящим от студента причинам», на работу в сферу управления, и предписал отправлять их на производственную работу в артели 17 .
В 1934 г. в ИНС было направлено 15 человек, на Томский рабфак – 28 18 . В 1932/33 уч. г. открылся Колпашевский педагогический техникум, где к середине 1930-х гг. обучалось 47 чел. 19 , 22 июня 1940 г. постановлением СНК СССР он был реорганизован в Колпашевский учительский институт 20 .
Школы на Севере создавались с ремесленно-промысловым уклоном, чтобы подготовить детей к жизни в тяжелых северных условиях. Другой задачей являлось формирование квалифицированных кадров для системы промкооперации, что планировалось достигнуть путем создания широкой сети кустарно-ремесленных школ (в 1928 г. в крае существовало только 4 такие школы). Поэтому Профобру, Сибирскому краевому совету народного хозяйства и Сибпромсою-зу поручалось в кратчайший срок разрабо- тать пятилетний план подготовки квалифицированной рабочей силы и определить тип учебно-производственной мастерской 21.
Особое внимание производственному уклону в школе стало уделяться с началом индустриализации. Десятого января 1929 г. Сибирский КС принял пятилетний план создания кустарно-ремесленных и профессионально-технических училищ при «туземных» школах-интернатах Сибирского края. На первое пятилетие планировалось развернуть сеть из 10 кустарно-промышленных школ, две из которых были открыты в Нарымском крае: слесарно-кузнечная мастерская при Широковском интернате и рыбо-производственная – при Верте-Косском интернате 22 .
Так определялись основные мероприятия школьного строитеьства советского государства у народов северных регионов Сибири, но при их осуществлении возникли проблемы. Одной из причин торможения образовательно-просветительской деятельности выступало недостаточное финансирование школ 23 . К концу 1930-х гг. ситуация в этой сфере стала улучшаться, но оставалась далекой от требуемой. Другой проблемой, сдерживавшей развитие образовательных учреждений, было незнание учителями языка коренных народов, что вело к трудностям в изложении материала учащимся. Сказывалось и то, что большинство педагогов имело небольшой профессиональный стаж 24 . Сами учебные пособия были ориентированы на создание унифицированного алфавита, но, например, селькупы делились на три группы, каждая из которых имела свой диалект 25 .
Препятствием для обеспечения образовательных учреждений квалифицированными кадрами из среды аборигенов являлось отсутствие среди них грамотных молодых людей 26. Возникали финансовые трудности с направлением студентов на учебу, студенты зачастую не могли адаптироваться к новым условиям быта, отсутствовала материальная база для организации нормального проживания рабфаковцев. Представители коренных народов, будучи направленными на рабфаки, порой не могли избавиться от ряда негативных привычек, в том числе от злоупотребления алкогольных напитков 27.
Существенным недостатком приезжих учителей было незнание северных народов и их национальных традиций, языка. Педагоги, столкнувшись с этими трудностями, оставляли место работы, что подрывало авторитет «туземной» школы в глазах коренного населения 28. Значительная часть учителей набиралась из молодежи. Не имея жизненного опыта, вновь прибывший педагог порой вообще не представлял, куда он попал [Алексеева, 2003. С. 54]. Большая дисперсность расселения коренных народов тоже создавала определенные проблемы при формировании школьной сети.
В силу малонаселенности северных районов не всегда удавалось набрать необходимое количество детей, вследствие чего организация школы иногда была просто нерентабельна по сравнению с затраченными средствами и усилиями 29. Существовали проблемы бытового плана, типичные для всех национальных школ северных регионов: отсутствие подходящих школьных помещений для проведения занятий, жилья для учителей и обслуживающего персонала зо школы и т. д.
Оценивая мероприятия советской власти в образовательной сфере в исследуемый период, можно говорить о трансформации первоначальных установок, декларированных в 1920-е гг. В 1930-е гг. ставка делалась на экстенсивное расширение сети школ и максимальный охват ею детей аборигенов без учета национальной специфики. Великая Отечественная война и начало разработок нефтяных месторождений прервали поступательный ход социокультурных мероприятий.
NATIONAL SCHOOL OF INDIGENOUS POPULATION OF THE MIDDLE OF THE BASIN OF THE OB IN THE 1920-1930s: PROBLEMS OF FORMATION