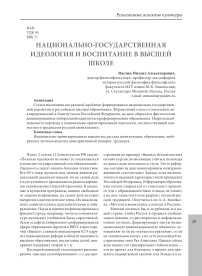Национально-государственная идеология и воспитание в высшей школе
Автор: Маслин Михаил Александрович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Религиозные аспекты культуры
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной проблеме формирования национально-государственной идеологии в российском высшем образовании. Формальный отказ от идеологии, декларированный в Конституции Российской Федерации, на деле обернулся фактическим доминированием либеральной идеологии в реформировании образования. Назрела необходимость перехода к национально-ориентированной идеологии, соответствующей ценностям и традициям русской цивилизации.
Национально-ориентированная идеология, русская цивилизация, образование, либерализм, антикоммунизм, консервативный поворот, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/170173938
IDR: 170173938 | УДК: 93
Текст научной статьи Национально-государственная идеология и воспитание в высшей школе
Пункт 2 статьи 12 Конституции РФ гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Однако его следует назвать большим лукавством. Все 90-е годы прошли под знаком внешне радикальной деидеологизации, но на самом деле в духе активного продвижения разных вариантов антикоммунистической идеологии. В школьные и вузовские программы, внешне свободные от идеологизирования, на самом деле активно внедрялись идеологические зерна. Их можно назвать сциентистскими, прагматическими и либеральными. Наука и идеология финансировалась фондом Сороса; например, почти вся номенклатура вузовских учебников была соросовской. Затем эстафета либерального реформирования сферы образования перешла к ВШЭ, в просторечии «Вышке», ставшей инициатором ЕГЭ и других перманентных реформ в области школьного, высшего образования, воспитания детей, внедрения гендерных теорий и т. п.
Последней новинкой стало широко рекламируемое «высшее самообразование», т. е. распро- странение по примеру «Вышки» бесконтактных онлайн курсов, позволяющее учиться не выходя из дома и даже не вставая со стула. Это те реформы, которые на деле инициированы «подхрюки-вающими сателлитами» Запада, если воспользоваться недавней характеристикой президента Российской Федерации. Реформаторы образования хотели оторваться от советского прошлого (где с образованием было отнюдь не плохо), а на деле лишь получили разрыв с великой русской традицией. Получилось по А. А. Зиновьеву: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».
Многим хотелось бы, и за рубежом, и в нашей стране, чтобы Россия в процессе глобализации наконец-то растворилась в информационных потоках, формирующих некую безна-циональную цивилизационную общность, основанную то ли на «мулькультурализме», то ли на «плавильном котле», а по сути на всеобщей вестернизации типа Pax Americana. Однако сейчас ясно видно, что триумфальная глобализация — это не проект для будущего, а проект для прошлого, подвергаемый критике и на Западе, и в са- мой Америке. Проект плавильного котла, по-английски melting pot, тает и испаряется, не случайно английское слово melt, melting означает не только плавление, но и таяние, испарение.
Очевидной стала несовместимость заимствованных на Западе псевдореформаторских рецептов вестернизации России с русскими культурными традициями и менталитетом русского народа. Русская культура оказалась перед вызовом леонтьевского «упростительного смешения», грозящего превратить родину Пушкина, Достоевского, Толстого, Шолохова в периферию Запада.
Падение Российской и Советской империй следует оценивать в сфере духа. Инстинкт собственного цивилизационного выживания России в ХХ веке прогрессивно утрачивался и сокращался, подобно шагреневой коже, заменялся инстинктом «европейничанья» по аналогии с «обезьянничаньем» (это известный образ Данилевского). Именно утратой цивилизационной идентичности, а не мнимым хозяйственным или технологическим отставанием объясняется распад последней империи — Советского Союза. Союз оказался «безымянной страной» (Вл. Вейд-ле), превратился в безликую «Советию» (термин И. А. Ильина), где, по словам Валентина Распутина, «нельзя было вымолвить русское слово, жили с обдёрганной историей, литературой, философией». Были забыты знаменитые суворовские слова: «Мы русские, какой восторг!».
Россия все дальше и дальше во времени и пространстве старалась казаться не тем, чем является на самом деле, относя себя к референтной цивилизационной группе Запада, а не Росси-и-Евразии. Более того, осознав свою отсталость в последнее десятилетие ХХ века по части институтов либеральной демократии и правового государства, Россия стала настолько быстро ускоряться в подражании Западу, что превратилась в его «кривое зеркало». Как известно, недавно от имени правящей партии была озвучена идея закона о единой российской нации, которая была раскритикована, в том числе такими известными интеллектуалами, как Михалков и Говорухин. Эта идея воплотилась в законопроекте «Об основах государственной национальной политики»1. Это, мягко говоря, странная идея. Ведь создавать закон об основах того, чего нет — невозможно. О «несуществовании» национальной политики в России может вполне красноречиво свидетельствовать сайт Федерального агентства по делам национальностей, где всё национальное — это нерусское и где нет ни единого упоминания о русских как о нации или этносе2.
Различные варианты идеологии либерализма, исподволь определившие ход реформ, означают разрыв с традицией. Они менее всего укоренены на русской почве, тяготея к слепому копированию иностранных моделей. Однако для современной России ресурсы копирования исчерпаны. Если во времена Петра Великого такое копирование было реальным, то теперь оно контрпродуктивно. Россия в прошедшем столетии стала единственной страной в мире, сменившей все возможные политические режимы и претерпевшей величайшие культурные метаморфозы. Это бесценный и ни с чем не сравнимый опыт. И не дай Бог, если, «наступая на собственные грабли», Россия будет наступать еще и на «чужие грабли».
Отсюда следует вывод: либеральная идеология способна лишь провалить Россию «в бездну глобалистской всеобщности». Ее основа — русофобия в самом точном смысле этого слова — идеология геополитического и духовного оскопления России, базисных оснований русской культуры, государственной субъектности русского народа как основы существования российской государственности во всех исторических формах ее бытия: Киевская Русь, Московская и Петербургская Россия, СССР, современная Россия (Российская Федерация).
В XXI столетии общегосударственной для России может быть только национальноориентированная идеология, отражающая традиции и ключевые цивилизационные ценности России. На вопрос, является ли Россия уникальной, особой, самостоятельной цивилизацией, которую следует поставить рядом с западной, китайской или индийской цивилизацией, утвердительный ответ дали такие классики цивилизационной теории как, Данилевский, Шпенглер, Тойнби. Россия-Евразия по совокупности совершенно объективных параметров не может быть отнесена ни к западному, ни к восточному культурно-географическим мирам, а простран-
ственно-географически, геополитически, этнически, культурно и хозяйственно представляет собой срединный мир-материк, возникший позже восточных и европейских цивилизаций, впитавший в себя многие их культурные достижения, но сумевший за последние шесть столетий (особенно в XIX-ХХ веках) приобрести ярко выраженное своеобразие и уникальное место в историческом процессе.
Питирим Сорокин дал следующую краткую характеристику основных характерных черт сознания, культуры и ценностей русской нации, базирующуюся на обобщенном осмыслении ее социальной, экономической и культурной истории: «Совокупность основных черт русской нации включает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, замечательное упорство, выдающуюся готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное, демографическое, политическое, социальное и культурное развитие в течение ее исторической жизни»3. Выведенные Сорокиным ценностные характеристики русской нации были основаны на понимании нации как целостной системы, ее структурных и динамических особенностей, а не на основе спекулятивных национальных стереотипов или фантастических представлений.
Основу исторического бытия России, сумевшей, несмотря на многочисленные нашествия европейских и азиатских завоевателей, сохранить свою суверенность и развиться в огромную территориальную, демографическую, политическую, социальную и культурную империю, составило то, что Россия-Евразия существует как континентальный мост, политический, транспортный и культурный посредник между мирами Востока и Запада, как ось мирового геополитического равновесия. Все эти реалии, включая особое положение России в русском мире и Евразийском экономическом союзе, должны быть учтены в утверждении новой государственной идеологии национального развития и восстановления, преодолевающей стагнацию и «обезьянничанье». Необходимость построения национально ориентированной государственной идеологии была осознана в государствах СНГ раньше, чем в России. Например, в Казахстане фактически государственной идеологией является евразийство; национальный университет в Астане носит имя Гумилева, хотя в казахской версии евразийства присутствует специфическая добавка пантюркизма.
Для утверждения национально-государственной идеологии необходима деидеологизация, освобождение российского общества от фактического доминирования либеральной идеологии, особенно в сфере образования и СМИ. Есть все основания говорить о том, что в сознании патриотически мыслящих российских интеллектуалов произошел «консервативный поворот» в сторону явного перевеса идейных течений, персоналий и сюжетов, связанных с историей русского консерватизма. Новой реальностью стала широкая популяризация идейного наследия русских мыслителей-консерваторов среди современного российского и западного общества, которая стимулирует проведение современных исследований, посвященных отечественной политической мысли и философии.
Явление консервативного поворота не является новостью, чем-то небывалым в отечественной истории идей. Согласно известной формуле «в молодости мы бываем реформаторами, в старости — консерваторами». Пример — идейная эволюция Н. М. Карамзина, который в 23 года в «Письмах русского путешественника» — симпатизант республиканизму и Просвещению, а в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», написанной в 50-летнем возрасте — монархист, провозгласивший, что «самодержавие есть палладиум России». А. С. Пушкин в юные годы был сторонником «площадного республиканизма» (по выражению А. И. Тургенева), а впоследствии стал просвещенным консерватором. Владимир Соловьев в молодости был вольнодумцем, нигилистом и атеистом, прежде чем стать христианским философом, а Николай Бердяев, как известно, совершил эволюцию от cоциализма и членства в «Киевском союзе борьбы за освобождение рабочего класса» к антикоммунизму, стал борцом «на два фронта», как против коммунизма, так и против капитализма. М. Н. Катков в молодости был либералом-западником, а в зрелые годы стал мыслителем-государственником, к советам которого прислушивались члены царствующего дома Романовых. Однако всё это — индивидуальные, личностные примеры, тогда как постсоветский консервативный поворот — явление идеологическое и cоциальное.
В целом же консерватизм в «идеологическом исполнении» еще далек от своего оформления в современной России и нуждается в государственной общественной и образовательной поддержке. Русский консерватизм — это прежде всего совокупность истории отечественных идей и традиций; в действительности в России актуален только «русский», «российский» консерватизм. Однако существуют свидетельства того, что и европейский консерватизм питался русскими источниками. Примером является полузабытая в России, но имевшая сильный европейский резонанс идея С. С. Уварова о необходимости перемещения геополитических интересов России в Азию, что явилось, по сути дела, первым выражением того варианта русского консерватизма, который стал известен в ХХ в. под именем евразийства.
Данные идеи были поддержаны известным французским консерватором Жозефом де Ме-стром и великим немецким писателем и мыслителем Гёте. Это подтверждает ту мысль, что естественными союзниками православной цивилизации на Западе являются консерваторы и сторонники сохранения традиций, традиционалисты. Их число возрастает по мере того, как в начале XXI столетия Россия стала постепенно возвращаться на путь цивилизационного развития, основанного на собственных ценностях и традициях. В «Проекте Азиатской Академии» и в других своих программных заявлениях Уваров выступал не просто как поклонник мудрости Востока, его древностей и ценностей, но как русский консерватор-геополитик, считающий то, что впоследствии евразийцы назвали «Исходом к Востоку», — движением в сторону коренных и ничем не заменимых национальных интересов России: «Россия, граничащая с Азией и владеющая всей северной частью этого континента, разделяет с другими державами нравственный интерес, руководимый ими в их благородных предприятиях, но, кроме того, у нее имеется еще и интерес политический, столь очевидный и неоспоримый, что одного беглого взгляда на карту достаточно, чтобы в нем убедиться. Россия, можно сказать, лежит на Азии. Почти со всеми восточными на- родами она имеет общую сухопутную границу гигантской протяженности. Поэтому с трудом можно поверить в то, что из всех европейских стран именно в России меньше всего уделяют внимания изучению Азии. Достаточно самых элементарных политических понятий, чтобы оценить преимущества, которые Россия могла бы извлечь из серьезных занятий Азией. Россия, имеющая столь тесные отношения с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, смогла бы не только содействовать в огромной степени общему прогрессу просвещения, но еще и удовлетворить свои наиболее дорогостоящие потребности. Никогда еще государственные соображения не были в таком согласии с великими видами нравственной цивилизации»4.
В постсоветский период явственно обнаружилась сущностная несовместимость ключевых ценностей русской православной цивилизации и либеральных западных ценностей эпохи постмодерна. В либеральных российских кругах, напротив, утвердилась концепция так называемой «догоняющей модернизации», а по своей сути — вестернизации-западнизации, которая распространилась у нас еще в период перестройки и до сих пор остается в ходу у либералов-западников. В основе идеологии вестернизации — неверие в созидательный потенциал собственной цивилизации и полное непонимание того, что Россия на самом деле имеет все необходимое для практически безграничного хозяйственного роста.
Слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что необходимо «Растабуиро-вать понятие «русская национальная организация» в глазах государственных деятелей» обращены не только к воцерковленным, но и к светским русским людям, ко всем, кого волнует прошлое и будущее нашей страны, русской нации, и шире — судьба человека в современном мире. Патриарх в целом ряде выступлений указывает на то, что игнорирование интересов и позиций русского большинства выгодно лишь разрушителям России, ведущим целенаправленную деятельность по «столкновению лбами этносов и религий». Патриарх указывает на необходи- мость неповторения ошибок со стороны государства, когда «в течение долгого времени на любые инициативы по объединению русских было наложено табу»5.
Благодаря солидарной поддержке русского народа в советский период произошло формирование многих наций и национальных автономий. Но на фоне интеграционных процессов внутри национальных культур других народов России среди русского населения, напротив, наблюдается дезынтеграция на региональном и областническом уровнях. В качестве примера Патриарх указывает на немалое количество граждан, идентифицировавших в ходе переписи 2010 года свою национальность не как русскую, а как «сибирскую» или «казацкую». Однако миф о «гетерогенности русского народа» не имеет под собой никаких оснований и является злонамеренной фальсификацией, ибо «По степени религиозного и языкового единства регионов, по близости культурных матриц русские не имеют аналогов среди крупных наций планеты»6. Важнейшим фактором, цементирующим «русскую монолитность», является то, что в русском национальном самосознании исключительное место занимает связь личности с государством: «Этническая идентичность русских в большей степени, чем у любых других народов, сопряжена с идентичностью государственной, с российским патриотизмом и верностью государственному центру»7. Отсюда Патриарх указывает на особую важность развития национальных общественных организаций, основанных на традиционной для русских лояльности к своему государству. Такой организацией является Всемирный Русский Народный Собор, влияние которого утверждалось через преодоление сопротивления внутренней русофобии, обвинявшей Собор в национализме и черносотенстве и накладывавшей табу на «любые инициативы по объединению русских». В действительности Собор не ставил перед собой никаких иных целей, кроме обеспечения единства и взаимопонимания внутри русского народа, между русским наро- дом и государством и между русским народом и другими народами России. Вот почему «Необходимо как можно быстрее растабуировать понятие «русская национальная организация в глазах государственных деятелей»8. Патриарх указывает также на то, что «Необходимо открыть русские культурные центры, которые станут очагами созидательного национального сознания, проводниками традиции российского единства, средоточием государственно мыслящих общественных сил»9.
Эти и другие идеи патриарха о русской нации заслуживают, несомненно, глубокого изучения для выработки национальной идеологии для России в XXI веке. Особое значение эти идеи имеют для сферы образования, которая должна быть «очагом созидательного национального сознания», способствующего созданию в обществе атмосферы национальной беседы. Необходим поворот общественного внимания к русскому вопросу, в духе, свободном от обвинений в распространении угрозы «русского национализма». По канонам советской идеологии национализм считался тягчайшим идеологическим грехом, отклонением от «пролетарского» и «социалистического» интернационализма в сторону «буржуазного национализма», который подлежал «строгому остракизму». Но на деле этот остракизм, как оказалось, был вовсе не «строгим», а «ласковым», он нисколько не мешал выработке националистических этнократических идеологий, имевшихся во всех национальных республиках СССР (кроме РСФСР). К чему привело «табу» на русский национализм с одновременным подспудным пестованием этнического антирусского национализма, хорошо известно на примере гражданских войн на территории бывшего СССР. Вот почему внимание к русскому вопросу и проблематике национально-государственной идеологии уже в постсоветский период становится вопросом национальной безопасности, требующим своего отражения в преподавании и патриотическом воспитании учащихся как средней, так и высшей школы.
Список литературы Национально-государственная идеология и воспитание в высшей школе
- Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Семь слов о русском мире. / сост. А. В. Щипков. М.: Всемирный русский народный собор, 2015.
- Уваров С. С. Проект Азиатской академии / Сергей Семенович Уваров. Избранные труды. Сост., авторы вступ. Статьи и комментарии: В. И. Парсамов, С. В. Удалов. Переводы В. С. Парсамова. М., 2010.
- Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии / О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья.