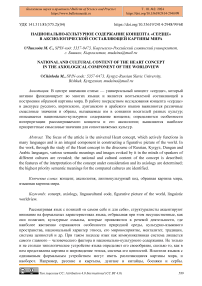Национально-культурное содержание концепта «сердце» в аксиологической составляющей картины мира
Автор: Чинлода М.С.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания статьи - универсальный концепт «сердце», который активно функционирует во многих языках и является неотъемлемой составляющей в построении образной картины мира. В работе посредством исследования концепта «сердце» в дискурсе русского, киргизского, дунганского и арабского языков выявляются различные смысловые значения и образы, вызываемые им в сознании носителей разных культур; описывается национально-культурное содержание концепта; определяются особенности интерпретации рассматриваемого концепта и его аксиологии; выявляются наиболее приоритетные смысловые значения для сопоставляемых культур.
Концепт, аксиология, лингвокультурный код, образная картина мира, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14129685
IDR: 14129685 | УДК: 141.311:81(575.2)(04) | DOI: 10.33619/2414-2948/99/68
Текст научной статьи Национально-культурное содержание концепта «сердце» в аксиологической составляющей картины мира
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
Рассматривая язык с позиций «в самом себе и для себя», структуралисты акцентируют внимание на формальных характеристиках языка, отбрасывая при этом несущественные, как они полагают, культурные смыслы, которые проявляются в речевой деятельности, где наиболее явственно отражаются особенности природной среды, культурно-языкового пространства, национальный характер этноса, его мировосприятие, менталитет, традиции, система ценностей и др. При таком подходе язык как коммуникативная система лишается самого главного – человеческого фактора и национально-культурного содержания. Не только и не столько типологическое устройство языка определяет его своеобразие, сколько то, как в нем представлена картина и мировидение этноса, система его ценностей. Носители языков с одинаковым формальным устройством могут иметь различающиеся картины мира, и наоборот. Например, русские и кыргызы, дунгане и китайцы, босняки и сербы.
Современному киргизу гораздо легче понять менталитет и систему ценностей представителей русской культуры, чем турецкой. В этой связи изучение и описание национально-культурного своеобразия, характера этноса и ценностного восприятия мира и менталитета нации, отраженных в языке и дискурсе представляется одной из актуальных задач современной науки о языке.
Принципы и методы данной работы представляют собой совокупность теоретикометодологических подходов, на которых основываются современные исследования в области когнитивной лингвистики и лингвокультурологии в сочетании с эмпирическими методами анализа. Методы сравнительно-сопоставительной лингвокультурологической экстраполяции, используемые без строгого разграничения синхронии и диахронии при анализе языковых фактов, позволяют связать прошлое и настоящее, выявить архетипы сознания, которые легли в основу создания современных образов мира, чтобы найти объяснение национальнокультурным особенностям представления и переработки знаний языковым сознанием носителей разных языков. С помощью метода лингвокогнитивного моделирования изучаются и описываются семантические свойства рассматриваемого концепта и его образное содержание. Лингвистический анализ дает возможность раскрыть значение концепта «сердце» в киргизском, русском, арабском и дунганском языках. При когнитивном анализе выявляются образы, вызываемые концептом «сердце» в сознании носителей разных языков. Культурологический анализ предусматривает описание интерпретации концепта «сердце» в языковом сознании носителей разных культур. С помощью метода пропозиционально-фреймового моделирования описывается то, как носители разных культур сознательно воспринимают концепт «сердце» и какие образы вызывает данный концепт в ментально-образном мире носителей различных культур.
Таким образом, обращаясь к лингвокультурологическому анализу рассматриваемого концепта, мы реализуем основные цели работы: 1) описание образов мира, увиденных коллективным этническим сознанием разных народов через призму одного и того же соотносительного концепта, и определение способов их интерпретации на другом языке; 2) выявление приоритетных смысловых значений концепта, аксиологической составляющей.
Как известно, язык, культура и мышление неразрывно связаны между собой и отражают окружающую действительность, формируя языковую картину мира, в которой этнический менталитет актуализируется в культурных концептах. Причем, по мнению специалистов, «концепт может выступать не только как средство хранения и передачи ментальности носителей языка, но и как средство, продуцирующее эту ментальность» [1]. Таким образом, концепт – «основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [2]. Рассуждая на тему концепта, И. А. Стернин писал: «Люди мыслят концептами, кодируемыми единицами этого особого ментального кода, который имеет чувственно-образный характер» [3]. Между тем носитель языка, погруженный в свою культуру, часто не осознает особенностей родного языка, которые отражены в языковой картине мира. Постичь картину мира, привычную для ее носителя, позволяет взгляд на языковые культурные особенности с позиции другого языка. Так, посредством сопоставительного лингвокультурологического исследования концепта сердце в дискурсе различных языков создается возможность выявить ментально-образный мир, возникающий в сознании носителей разных культур через призму одного и того же концепта. Причем создаваемый чувственно-образный мир у каждого этнического коллектива может иметь как сходные, так и отличительные черты, которые зависят от экстралингвистических факторов (природной среды проживания, традиций, особенностей историко-культурного развития, ценностных предпочтений и др.). В этой связи
-
В. фон Гумбольдт отмечал: «Характер языка запечатлен в каждом выражении и в каждом соединении выражений, и поэтому вся масса представлений получает свойственный языку колорит» [4].
По мнению М. В. Пименовой, концепт сердце в русском языке можно рассматривать исходя из следующих признаков: 1) мотивирующие признаки концептов; 2) образные концептуальные признаки; 3) понятийные признаки; 4) признаки ценности; 5) символические признаки [1].
К мотивирующим относятся такие признаки, как сердце-середина , глубина, внутренность, грудное чрево [1]. Как известно, сердце этимологически связано с серединой . Так, в русском языке есть такие выражения, как Москва – сердце России, сердцевина дерева , и т. д. В дунганском языке данный смысл образован с помощью союза двух слов: жу ‘мясо’ и щин ‘сердце’, т.е. жущин ‘мясо сердца’ передает значение середины или сердцевины [5]. В арабской культуре قلب ‘сердце’ также имеет смысл середины. Например, арабы говорят لکلّ شيء قلب ‘для каждой вещи –сердце’ (смысл: все, что нас окружает, имеет середину). Так, для носителя арабского языка привычно применение фразы قلب المدینة ‘сердце города’, что несвойственно для носителя киргизской культуры, в которой этот концепт не ассоциируется с серединой, или сердцевиной. Как известно, жʏрƟк ‘сердце’ в киргизском языке происходит от слова жʏр ‘бежать’. Так, если в некоторых культурах концепт «сердце» имеет пространственный характер, то в кыргызской культуре – процессуальный.
Что касается образных концептуальных признаков, М. В. Пименова приводит концептуальные метафоры живой и неживой природы. В основе концептуальных метафор неживой природы – «признаки вещества и признаки стихий» [1]. Например, твердое сердце , ассоциирующееся со стойкостью, мужеством, отсутствием сострадания и бессердечностью, и, наоборот, мягкое сердце. Подобные вещественные метафоры, в основе которых лежит когнитивная модель «сердце –твердое вещество», «сердце–мягкое вещество» можно найти и в других культурах. Например, чтобы охарактеризовать человека и его отношению к кому-либо, в киргизском языке используется выражение жʏрƟгʏ таш или таш жʏрƟгʏ ‘сердце камень’, что обозначает непреклонного человека. В арабском языке данный смысл реализуется через выражение القلب جامد‘твердое сердце’. Сравните: в дунганском языке эпитет непреклонного человека – щин жин дади жын ‘человек с большой силой сердца’.
Концептуальные метафоры неживой природы, в основе которых «признаки стихии», реализуются через признаки воды, воздуха, огня и земли. Например, метафора , которая реализуется через признаки почвы, вырвать из сердца (смысл: забыть о ком-либо). Сравните: в арабском языке данный смысл реализуется через фразеологизм یحرر النفس ‘освободить душу’.
Концептуальные метафоры живой природы реализуются через признаки растений, животных, птиц, человека. Например, сердце дышит, сердце живет, сердце растет и т. д. В дунганском языке щин мэ сы ‘сердце не умерло’ (смысл: душа тянет); щин дян чуо ‘сердце хромает’ (смысл: сомневается); щин шонли тянли ‘сердце взлетело’ (смысл: обрадовался); щин фали ‘сердце устало’ (смысл: испытывает безразличие) и т. д. В русской культуре сердцу также, как и всем живым существам, свойствен возраст. Например, молодое сердце . Сравните: в киргизском языке жʏрƟк эти толо элек ‘сердечная мышца еще не развита’, т. е. он ещё молод (о богатыре), не созрел для подвигов.
Во многих культурах концепт сердце имеет тесную взаимосвязь с умственными способностями человека. Отсюда в русском языке такие выражения, как мудрое сердце, глупое сердце и т. д. Отметим, что по данным Национального корпуса русского языка, гораздо более употребительным является выражение глупое сердце . Отсюда можно прийти к тому, что сердце больше ассоциируется с глупостью, чем с умом. Полагаем, это связано с тем, что сердце – источник эмоций в русской культуре, а действия. совершаемые на эмоциях, в большинстве случаев не имеют логических объяснений.
В дискурсе дунганского языка смышлёность, собразительность человека передается с помощью выражений щин линди ‘звонкое сердце’; щин линди вава ‘ребенок со звонким сердцем’[6]. В арабской языковой картине мира сердце также связано с мыслительными процессами человека, его уровнем интеллекта, способностью понимать и размышлять. Так, выражение القلب أعمى‘слепое сердце’ описывает человека, неспособного думать, размышлять над чем-либо или воспринимать что-либо. Способность человека понимать полученные им знания отражается в пословице العلم في الصدور ولا في السطور‘знание в сердцах, а не в строках’. Арабы также говорят فتح قلب ‘сердце открылось’ (смысл: понял).
Сердце может также обладать определенными качествами, от которых зависит нрав человека. Эти качества в различных языках интерпретируются разнообразным образом, в зависимости от национально-культурных особенностей того или иного народа. Например, в киргизской культуре, где сердце — источник намерений человека, выражением ак жʏрƟк описывается преданный человек с добрыми намерениями. Дословный перевод данного выражения на арабский язык القلب أبیض ‘белое сердце’ несет в себе такое же смысловое значение, как и в киргизском. Как известно, неотъемлемой составляющей русской культуры является христианская культура. Тема добрых намерений очень широко описана в Библии – главном атрибуте христианства: блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5: 8). Толкователи, объясняя приведенный стих, говорят, что Иисус Христос называет чистым сердцем тех, кто приобрел всецелую добродетель и не сознает за собой никакого лукавства. Полагаем, это есть причина того, что в русском языке доброта намерений зависит от «чистоты». Так, выражение с чистым сердцем выражает добрые намерения человека. Сравните: в дунганском языке данный смысл передается с помощью выражения ле хо щин ‘с хорошим сердцем.
Что касается понятийных признаков, под которыми понимаются признаки концепта, актуализированные в словарных значениях в виде репрезента концепта, для анализа коих необходимы данные не только современных толковых словарей, но и исторических, то можно обсудить общий признак сердца во всех рассматриваемых языках — чувство. Так, сердце во многих культурах отражает такие чувства и эмоции человека, как любовь, радость, печаль, страх, гнев и др. Например, сердце в русской культуре — источник искренности. Отсюда выражение от всего сердца . Первые употребления данного выражения отмечены в XVII в. в письмах А. А. Виниуса Петру I: «от всего сердца моего» [7], т. e. искренне. Это смысловое значение в киргизском языке реализуется с помощью выражения жʏрƟгʏн кабы менен сууруп берип ‘сердце своё вместе с сердечной сумкой вытащив’ [8]. В дунганском языке источником искренности также является сердце – щин. Так, выражение ле тхын щин ‘с больным сердцем’ имеет смысл «от всего сердца», а искренние слова передаются с помощью выражения щинди ниди хуа ‘слова под сердцем’. В сознании арабов образ искреннего человека вызывает выражение القلب من الذھب‘сердце из золота’, а проявление искренности выражается словами من أعماق القلب ‘из глубины сердца’ или 9] من القلب إلى القلب] ‘от сердца к сердцу’.
Искренность, исходящая от сердца, в русской культуре находит отражение во фразеологизме положа руку на сердце, в котором «прикладывание руки к сердцу первоначально означало, что все, что говорится собеседником, идет от чистого сердца» [7]. Данное фразеологическое выражение широко используется в русской художественной литературе: Я полагаю со своей стороны, положа руку на сердце: по восьми гривен на душу, это самая красная цена! (Н. Гоголь. «Мертвые души»). Обратим внимание на то, каким образом данный контекст переведен на арабский язык:
أعتقد من ناحیتي و بقلب سلیم أنّ ثمانین کوبیکا للنفس الواحدة ھو أفضل سعر
Таким образом, значение искренности во фразеологизме положа руку на сердце передается в арабском языке выражением القلب سلیم ‘здоровое сердце’. Отметим, что القلب سلیم ‘здоровое сердце’ в арабском языке также используется и в других переносных значениях. Так, в арабском языке пословица القلب السلیم في الجسم السلیم‘здоровое сердце в здоровом теле’ призывает людей вести здоровый образ жизни. Так, в русском языке: в здоровом теле здоровый дух ; в киргизском: дени соонун – жаны соо ‘здоровью — здоровая душа’.
В русской культуре очень широко сердце связано с чувствами, выражающими любовь. Например, такие выражения любви, как любить всем сердцем ; просить руки и сердца – выйти замуж, покорять сердце — любить себя. Сравните: в дунганском языке щёнсыр хэдо щин ‘ болеть до желудочек сердца’[6]. У арабов, в частности у бедуинов (арабы, проживающие в пустыне), знаком любви является выражение في کبدي ‘у меня в печени’. Печень у арабов, как и у киргизов, ассоциируется с кругом близких кровных родственников. Так, носитель арабского языка, произнося выражение في کبدي ‘у меня в печени’ понравившейся ему девушке, говорит о том, что готов взять её в круг своих родных людей, т. е. жениться. Страдание от несчастной любви отражается в русской культуре выражением разбитое сердце . Сравните: в дунганском языке щинще ки ганли ‘сердечная кровь высохла от страдания’[6].
Сердце в русской культуре является источником своих собственных убеждений, переживаний. Например, выражение скрепя сердце (смысл: против воли). Значение скрепя мотивировано «известным движением хватания себя за сердце при сильном сердцебиении от волнения (в надежде «скрепить» его, не дать разорваться)» [7]. Например, Веру главный врач, невзирая на вызов к похоронам отца, отпустил скрепя сердце, и только на один день, только на один! (А. Югов «Страшный суд»).
Обратим внимание на перевод данного контекста на арабский язык:
أما فیرا نفسها فقد سمح لها كبیر الأطباء بالتغیب عن المستشفى على مضض ولیوم واحد فقط، نعم لیوم واحد... [9]
В арабской культуре сердце не является источником своих собственных убеждений, так как в тексте перевода словосочетание скрепя сердце представлено как على مضض ‘c неохотой’. Между тем в дунганском языке данный смысл реализуется с помощью фразеологизма да щиншон жюдё ‘оторвать от сердца’.
Как известно, сердце образовано от глагола сердиться. Полагаем, что это и стало причиной тому, что в русской культуре в выражениях в сердцах , с сердцем, срывать / сорвать сердце или иметь сердце отражается гнев. Однако, отметим, что слово сердце в подобных фразеологизмах имеет старое (известное сейчас лишь в диалектах) значение «гнев, злоба» [7]. Интересно отметить, что дословный перевод данного фразеологизма на дунганский язык ю щин ‘иметь сердце’ означает заботу о ком-либо.
Что касается признаков ценности, то сердце может ассоциироваться с богатством, золотом, имуществом, подарком и т. д. Например, доброта в русской культуре оценивается как золотое качество. Отсюда выражение сердце золотое. Перевод данного выражения как на арабский язык – القلب من الذھب ‘сердце из золота’, — так и на киргизский языки — алтын жʏрƟк – также применим среди носителей этих культур.
Что касается символических признаков, считаем важным отметить, в русской символической картине мира сердце отожествляется с Богом. Тому пример стих из Библии, в котором утверждается, что Бог — твердыня сердца: «Бог — твердыня сердца моего» (Пс. 72: 26). Между тем многие другие религии мира считают, что сердце — место Бога. Например, в китайской буддийской культуре сердце — драгоценный орган Будды; в индуизме сердце — место обитания Брахмы и т. д. Однако в арабской культуре, важной составляющей которой является исламская культура, подобных символизаций не наблюдается. Согласно Корану, сердце — вместилище веры в Аллаха:
-
"...ولمّا یدخلِ الإیمان في قلوبِکم" (الحجرات، 14)
-
« …вера еще не вошла в ваши сердца» (Аль-Худжурат; 14).
Как известно, киргизы и дунгане — народы, исповедующие Ислам. Полагаем, это послужило объяснением тому, что в этих культурах также нет символического отождествления сердца с Богом. При этом некоторые «божественные» качества все же находят место в сердце. Например, милосердие, которое является одним из качеств Всевышнего и понимается как сострадание или снисхождение. Во многих культурах милосердие находит свое вместилище в сердцах людей. Например, в русском языке милосердие отражается в таких дериватах как сердоболие, сердобольничать и т. д. В арабской культуре выражением بلا قلب ‘без сердца’ описывается человек, у которого нет ни капли милосердия или сострадания к окружающим. В дискурсе дунганского языка проявление сопереживания выражается как щин гуобу че ди ‘не перешагнуть через сердце’. В киргизском языке вместилищем милосердия является печень — боор: боорукер — сердобольный человек.
Как известно, аксиологическая семантика — важная составляющая языковой картины мира, благодаря которой выявляются приоритетные ценности, определяющие черты ментальности и национальный характер этноса. На основании этого в каждой культуре можно выделить национально-культурные приоритеты, которые служат для выстраивания аксиологии языковой картины мира. Определяется круг лексем и лингвокультурных кодов, несущих культуроносные и аксиологически важные смыслы, присущие культурносемантическому пространству этноса. Что касается концепта сердце , который активно функционирует во всех рассматриваемых культурах, то можно выделить приоритетные для этноса смыслы. Так, в русской культуре для концепта сердце приоритетными смыслами являются чувства и такие эмоции человека, как любовь, радость, печаль, страх, гнев и др. В киргизской культуре приоритетный смысл концепта жʏрƟк ‘сердце’ – храбрость и сила. Например, у киргизского народа считается, что сердце настоящего богатыря должно быть сплошь покрыто жиром. Отсюда выражение жʏрƟгʏ майлуу жигит ‘парень, сердце которого покрыто жиром’. Пожелание смелости и храбрости выражается как жʏрƟгʏ майлуу болсун ‘да будет твое сердце жирным’; жʏрƟгʏндƟ кара жок, баары да май ‘у него на сердце нет темного пятнышка, всё — жир’, т.е. он настоящий богатырь. Соответственно, трусливый человек описывается выражением жʏрƟгʏ майсыз ‘сердце без жира’. Концепт жʏрƟк ‘сердце’ широко применим в пословицах, отражающих тему храбрости в киргизской культуре. Например, баатырдын кƟркʏ жʏрƟктʏ ‘ украшение богатыря — сердце ’. Эр жʏрөк или жʏрөгʏ эки ‘два сердца’, жʏрөктʏʏ ‘с сердцем ’ , жаландуу жʏрөк ‘пламенное сердце’ — эпитеты храброго человека в киргизском языке. Соответственно, жʏрөгʏ жок ‘нет сердца’ — эпитет трусливого человека.
В дунганской культуре наиболее приоритетным смыслом для концепта щин ‘сердце’ является душа. Так, дунгане говорят ле щин ‘с сердцем’ (смысл: с душой), мо щин ‘нет сердца’ (смысл: душа не лежит). Отметим, что сходные по внутренней структуре пропозиции, выражающие отсутствие сердца, в русском языке могут нести иной смысл.
Сравните: в русском языке бессердечный ассоциируется с жестокостью и черствостью души, а человек с большим сердцем – с добротой.
Что касается приоритетного смысла в арабском языке, то носителем арабской культуры القلب‘сердце’ воспринимается как средство восприятия информации и ее понимания. Например, لهم قلوب لا یفقهون بها ‘их сердца не понимают’.
Таким образом, аксиологичность одного и того же соотносительного концепта выявляется во всех культурах.
Исследования, представленные в данной работе, позволили выявить значимость рассматриваемого концепта в построении различных образов мира. Разнообразие смысловых значений концепта сердце и особенности их интерпретации наглядно демонстрируют нам его национально-культурное своеобразие в аксиологической составляющей картины мира. Несмотря на сходство смысловых значений концепта сердце , его интерпретация в различных языковых картинах мира зависит от аксиологии языка и места в культурно-смысловом пространстве сопоставляемых языков.
С помощью анализа концепта сердце , который представляется для всех культур наиболее ценной универсалией, мы смогли наглядно выделить аксиологически значимые для каждой национальной культуры приоритетные смыслы.
Список литературы Национально-культурное содержание концепта «сердце» в аксиологической составляющей картины мира
- Пименова М. В. Концепт сердце: Образ. Понятие. Символ. Кемерово: КемГУ, 2007. 500 с.
- Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Стернин И. А., Тагаев М. Д., Камбаралиева У. Д. Основные направления и перспективы развития когнитивных исследований в Кыргызской Республике // Вестник КРСУ. 2015. Т. 15. №2. С. 200-204. EDN: TMYTAP
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000. 400 с.
- Яншансин Ю., Шинло Л. Русско-дунганский словарь. Б.: Эркин-Тоо, 2008. 356 с.
- Имазов М. Х., Юнузова З. Ш., Дунганско-русский фразеологический словарь. Б.: Илим, 2017. 480 с.
- Бирих А. К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь: около 6000 фразеологизмов. М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. 926 с.
- Юдахин К. К. Кыргызча-орусча сөздʏк. Кыргызско-русский словарь. Б.: Полиграфбумресурсы, 2019. 1092 с. المعاني. 9Аль-Маани. Электронный толковый словарь арабского языка.
- Фавзи А. М., Шкляров В. Т. Учебный русско-арабский фразеологический словарь: Около 900 фразеологизмов. М., 1989. 616 с.