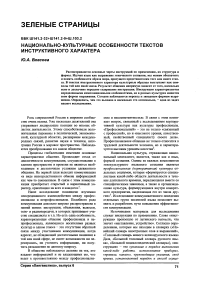Национально-культурные особенности текстов инструктивного характера
Автор: Власова Юлия Анатольевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 1 (101), 2008 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные черты инструкций по применению, их структура и формы. Изучая язык как выражение этнического сознания, мы можем обозначить и понять особенности образа мира, присущего представителям того или иного этноса. В текстах инструктивного характера культурные образцы выступают как символы той или иной эпохи. Результат общения напрямую зависит от того, насколько ясно и доходчиво передано содержание инструкции. Инструкции характеризуются определенными композиционными особенностями, но в разных культурах имеются свои формы выражения. Сегодня наблюдается переход к западным формам выражения. Определить, чем это вызвано и насколько это оптимально, - одна из задач нашего исследования.
Короткий адрес: https://sciup.org/147153637
IDR: 147153637
Текст научной статьи Национально-культурные особенности текстов инструктивного характера
Рассматриваются основные черты инструкций по применению, их структура и формы. Изучая язык как выражение этнического сознания, мы можем обозначить и понять особенности образа мира, присущего представителям того или иного этноса. В текстах инструктивного характера культурные образцы выступают как символы той или иной эпохи. Результат общения напрямую зависит от того, насколько ясно и доходчиво передано содержание инструкции. Инструкции характеризуются определенными композиционными особенностями, но в разных культурах имеются свои формы выражения. Сегодня наблюдается переход к западным формам выражения. Определить, чем это вызвано и насколько это оптимально, - одна из задач нашего исследования.
Роль современной России в мировом сообществе очень велика. Уже несколько десятилетий она удерживает лидирующие позиции во многих областях деятельности. Этому способствовали положительные перемены в политической, экономической, культурной областях, расширение международных связей, развитие науки и техники, интеграция России в мировое пространство. Наблюдаются преобразования и в самом обществе.
Процессы глобализации изменили основные характеристики общения. Происходит отход от диалогичности коммуникации, сосуществование в едином пространстве и времени не является необходимым и достаточным условием адекватного общения. На первый план выходит коммуникация «в виде непосредственного обмена информацией как чем-то самоценным. В связи с этим коммуникация приобретает открытый и вариативный характер, ориентацию на всех и каждого»1.
Наше исследование посвящено изучению опосредованного взаимодействия между профессионалом и непрофессионалом. Подобного рода коммуникация довольно широко распространена в нашей жизни: инструкции, объявления, вывески, теле- и радиопередачи, в которых принимают участие специалисты и т.п. Но есть одна особенность, характеризующая общение профессионала и непрофессионала, являющихся носителями разных культур в одном этносе - это отсутствие обратной связи между участниками коммуникации, когда адресат, не обладающий достаточными знаниями в той или иной сфере, не имеет возможности ни переспросить, ни уточнить информацию, ни получить разъяснения по данному вопросу.
В обществе наблюдается деление на тех, кто владеет информацией и не владеющими ею, что ведет к противостоянию между профессионализ мом и некомпетентностью. В связи с этим возникает вопрос, связанный с исследованием корпоративной культуры как культуры профессионала. «Профессиональный» - это не только «связанный с профессией», но и «высокого уровня, качественный, свойственный специалисту своего дела». Профессиональное общение не только относится к трудовой деятельности человека, но и характеризуется высоким уровнем качества2.
Национальная культура, отражающая национальный менталитет, является, также как и язык, формой сознания. Одним из важных компонентов этнокультурного языкового сознания является профессиональная (корпоративная) культура отдельных социумов, которая «формируется специалистами какой-либо области деятельности в течение длительного времени, передающаяся вместе со специфическими знаниями, а также и организационная культура, формирующаяся внутри конкретного предприятия, выделяющая его из числа других»3. Исследование коммуникативного поведения отдельных групп носителей языка позволяет выявить и разработать пути повышения эффективности коммуникации.
Источниками материала для исследования служат инструкции по применению. Слово «инструкция» произошло от латинского instructio, что значит «наставление, устройство». Согласно определениям, которые мы находим в словарях («Новейший словарь иностранных слов и выражений», «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля, «Большой толковый словарь русского языка», «Большой энциклопедический словарь»), «инструкция» - это «указание о порядке выполнения какой-либо работы, использование прибора», «правила, наказъ», «руководящие указания, свод правил, установленный порядок и способ осуще- ствления чего-либо», «подзаконный акт, регламентирующий выполнение какого-либо рода деятельности». Таким образом, основная функция инструкции по применению - это четко, лаконично, а главное доходчиво объяснить человеку, не обладающему достаточными знаниями в данной области, как применять тот или иной прибор, препарат, механизм и т.п., а также как вести себя в данной конкретной ситуации. Однако, инструкции не всегда отвечают этим требованиям. Это связано с рядом причин.
Во-первых, объем информации. Инструкции по применению имеют различную форму: вся информация может уместиться на одной странице, в другом случае текст инструкции занимает не один десяток страниц. Возникает вопрос: зависит ли структура и форма инструкции от того, какую область применения она отражает (медицина, наука и техника, сфера услуг). Однозначного ответа нет, но сравнительный анализ текстов инструктивного характера из различных областей деятельности позволяет говорить о том, что такие особенности существуют. Инструкция к конфете-игрушке содержит всего два предложения: «Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет. Мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути». Но в них содержится основная информация, которая не вызывает у адресата никаких недоразумений. Правила пользования бытовым прибором, например, содержат большее количество рекомендаций для пользователей. Потребитель найдет здесь и подробное описание комплектующих, и порядок работы, и меры безопасности. В инструкциях по применению медицинских препаратов информация представлена четко и полно, что объясняется серьезностью последствий, к которым может привести непонимание текста инструкции.
Во-вторых, информация, содержащаяся в тексте инструкции, не всегда понятна непрофессионалу. А.А. Леонтьев отмечает, что наряду с индивидуальными вариантами существуют инвариантные образы мира, понимаемые как совокупность «абстрактных моделей, описывающих общие черты в видении мира различными людьми»4. То, что профессионалу кажется очевидным, там, где для него «существуют богатые и разнообразные миры впечатлений, материалов для размышления и практического действия»5, неспециалисту открывается лишь «пустота». Так следует ли читать непрофессионалу в конкретной области знаний инструкцию целиком, если после знакомства с текстом для него ситуация не проясняется, а, наоборот, в некоторых случаях и запутывается.
Российские потребители товаров и услуг просто игнорируют инструкции, «надеясь на авось». Обыватель сначала использует прибор (устройство препарат, механизм) на практике («методом тыка»), а к инструкции обратится тогда, когда воз никнут какие-либо неполадки. И в этом проявляются особенности национального характера.
В-третьих, понимание инструкции осложняется тем, что непрофессионал не знаком с теми реалиями, которые скрываются за названиями, терминами, употребляемыми в тексте инструкции. Например, «Проверьте уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи». Или лекарственный препарат эпросартан «можно применять с тиазидными диуретиками и блокаторами «медленных» кальциевых каналов».
В-четвертых, инструкции содержат информацию с негативной оценкой или двусмысленностью. Когда перечисляются побочные действия любого лекарственного препарата, например, эуф-фелина: «Эксфолиативный дерматит, лихорадочная реакция, редко — судороги», пациент может задуматься, стоит ли принимать эти таблетки, если, излечив один недуг, можно заболеть еще больше. Специалисту, конечно, известно, что такие реакции наблюдаются не всегда и не у каждого человека. Но на непрофессионала впечатление производят, с одной стороны, количество побочных действий, с другой - его пугают сами слова (судороги, например), а на то, что они бывают редко, он обратит внимание в последнюю очередь или проигнорирует совсем.
В-пятых, язык текстов инструктивного характера не всегда способствует успешному взаимодействию между профессионалом и непрофессионалом. Эффективное общение на любом языке предполагает, что коммуниканты обладают, с одной стороны, общностью знаний об используемом языке и навыками речевого общения, а с другой — общностью знаний о мире в форме образов сознания. Основной причиной непонимания при межкультурном общении является различие национальных сознаний коммуникантов, что находит свое выражение в использовании определенных языковых средств.
Связь культуры и грамматического строя языка не столь очевидна, как связь культуры и лексики, но ее значимость никак не меньше. «Понятия и отношения, фундаментальные для данной культуры, находят свое выражение не только в лексиконе, но и в грамматике языка данной культуры»6.
Согласно синтаксической типологии языков, русский язык является языком пациентивной ориентации, в то время как английский язык - языком агентивной ориентации. Сравнивая синтаксический строй двух языков, А. Вежбицкая приходит к выводу о том, что ценности, лежащие в основе этих языков «диаметрально противоположны»: доминирование ценностей активного действия, контроля над собой и своим окружением, личной ответственности и автономности личности в англоязычных культурах, и ценностей пассивного восприятия, фатализма, коллективизма — в русской культуре.
Власова Ю.А.
Для английского языкового сознания характерным является наличие такой доминанты, как личность, которая отсутствует в русском языке. Русскому языковому сознанию присуща «друго-центричность». (Н.В. Уфимцева)
В английском языке доминирует субъект действия, управляющий событиями в мире. Лингвистическим выражением такого видения мира на уровне синтаксиса являются номинативные конструкции, где позиция подлежащего является обязательной. В текстах инструктивного характера такие предложения встречаются, но не часто, что объясняется прагматическим типом высказываний: побуждение к действию, совет, рекомендация, указание. «You will obtain the best results with a slightly soft dough».
Русский язык представляет мир таким образом, что происходящие в нем события случаются независимо от воли субъекта. В большом количестве употребляются безличные и пассивные конструкции: «Данная функция не может быть использована в России», «Выездная часть миграционной карты должна храниться в паспорте пассажира».
Употребление форм повелительного наклонения в русском языке, которыми изобилуют инструкции по применению в силу выполняемой ими коммуникативной функции, является еще одним примером проявления культурных ценностей. Высказываниям на русском языке присущи категоричность, прямолинейность, авторитарность. Например, «Разговор с водителем во время движения запрещен». «Выдернуть шнур. Выдавить стекло». Структурирование информации подобным образом является действенным, если существует реальная опасность, и требуется однозначное решение проблемы, например, «Keep the drug out of reach of children!» (Хранить лекарственное средство в недоступном для детей месте!).
Употребление в речи предложений, выражающих желаемость, необходимость, возмож-ность/невозможность осуществления действия, в которых позиция субъектно-детерминирующей формы остается открытой, доказывает, что общение на русском языке характеризуется иерархией, а не паритетом социальных ролей коммуникантов. Говорящий как бы подчеркивает свое превосходство, считает себя вправе навязывать свои правила, подавляя желания адресата.
Для представителей англоязычных культур такое коммуникативное поведение вызывает недоумение и протест, выражаемые абсолютно в иных формах выражения действительности. Желательность или нежелательность действий предстает в виде описаний, а не предписаний. No parking. (Здесь не паркуются, в отличие от Машины не ставить!).
Сегодня наблюдается процесс взаимопроникновения культур, когда реалии одного лингвокуль турного сообщества становятся частью другого. Однозначно ответить, насколько удачным является этот процесс, трудно. Главное - это переняв положительный опыт других культур, не растерять собственные национально-культурные ценности, а попытаться смоделировать оптимальное коммуникативное поведение. Приведем один пример. Вместо традиционной инструкции «Машины не ставить!» нам встретилась вывеска: «Парковка на три места для клиентов стоматологии». Такая формулировка скорее информирует о том, как нужно вести себя в данной ситуации, а не устанавливает жесткие правила. С одной стороны - это проявление вежливости по отношению к клиентам, с другой - носители русской культуры могут понять это как желаемое, не обязательное к исполнению.
В качестве примера отрицательного влияния западной культуры можно привести следующую инструкцию по применению газовой плиты, где говорится: «Не допускается использовать для сушки одежды». В данном случае область применения прибора не вызывает никакой неопределенности, и потребитель вряд ли попытается произвести действия, которые запрещает инструкция. Излишняя конкретизации инструкций может быть вызвана тем, что уже встречались прецеденты подобного рода, и сервисодатель, чтобы избежать судебных исков со стороны клиентов, пытается таким образом обезопасить себя от возможных претензий.
Идея категорического запрета, выражаемая понятием нельзя, очень сильна в менталитете русского человека. Долгое время многое в общественной и даже частной жизни было запрещено. Это понятие действует в семантической системе ребенка с трехлетнего возраста. Действительно, человек с детства усваивает нормы и правила поведения в форме различных «не делай, не шуми, не ходи, не трогай» и т.п. Для сравнения в Японии дети воспитываются в атмосфере вседозволенности (в хорошем понимании этого слова).
Текст инструкций содержит многочисленные запреты, типичная конструкция представляет «не+глагол в повелительном наклонении»: «Не допускать контакта с пищевыми продуктами», «Не замораживайте супы, соусы, напитки и другие жидкости».
Коммуникативное поведение имеет национально-специфический характер, представляет собой реализуемые в процессе коммуникации правила и традиции общения той или иной лингвокультурной общности. Проиллюстрируем некоторые особенности русского и англоамериканского коммуникативного поведения, которые естественным образом находят свое выражение в языке.
Среди особенностей общения русской лингвокультурной общности можно выделить следующие:
-
- общительность; нелюбовь к формальному, этикетному общению. Например, ни в одном из пяти пунктов инструкции по применению миграционной карты нам не встретилась ни одна форма вежливости, в то время как в английском варианте она присутствует в большинстве случаев: «Выездная часть миграционной карты должна храниться в паспорте пассажира» - «Please, keep your card along with your passport». Еще один пример. На карточке, полученной в одном из отелей Таиланда, наряду с перечнем предоставляемых услуг, картой торговых центров имеется такая надпись: «For your convenience, below are instructions in Thai for direction back to the Indra Regent Hotel»)’,
-
— стремление включить в процесс коммуникации всех присутствующих. Корни коллективного общения, на наш взгляд, кроются в историческом развитии нашей страны, где долгое время наиболее традиционной формой организации трудовой деятельности была общинная форма. Это находит свое выражение и в языке.
Вот пример инструкции по применению фосфида цинка для истребления крыс, изданной в 1946 году. «Хранить фосфид цинка необходимо в сухом, хорошо вентилируемом помещении, в сухих, плотно закрытых резиновыми пробками стеклянных банках. Приготовление отравленных приманок с фосфидом цинка должно производиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе».
Несмотря на то, что предложения представляют собой двукомпонентные подлежащносказуемостные схемы со спрягаемой формой глагола, они характеризуются неопределенноличной семантикой. Интересным получается результат, если сравнить русский и английский варианты одного и того же предложения: «Графы миграционной карты заполняются четко и ясно» - «Please, fill in the card clearly». Повелительное наклонение, выраженное формой инфинитива fill и имеющее конкретного адресата (2-е лицо) еще раз доказывает личностноориентированный характер англоязычного языкового сознания.
Своеобразие англо-американского коммуникативного поведения состоит
-
- в некатегоричности общения. Например, «Single doze should not exceed 0.4 mg» — «Разовая доза не должна превышать 0,4 мг». Модальный глагол should имеет значение долженствования, но с оттенком желаемости/нежелаемости осуществления деятельности, по сравнению с русским должен, семантика которого требует неукоснительного исполнения инструкции.
-
- большой роли письменного общения. Мы считаем, что этот факт связан с наличием различных классификаций культур, выделяемых Э.Холлом и Р.Д. Льюисом.
Э.Холл разделяет культуры на высоко- и низкоконтекстуальные7. В основе классификации лежит их отношение к контексту, под которым понимается информация, окружающая и сопровождающая событие. Для низкоконтекстуальных культур (представителями которых являются США, Канада) в процессе общения необходима подробная информация обо всем происходящем. Практически вся информация содержится в словах, а не в контексте общения. Такие культуры отличаются индивидуализмом, письменные договоренности здесь ценятся больше.
Высококонтекстуальные культуры (русская, например) ориентированы на диалог, на установление профессиональных и личных связей. Это коллективистские культуры, где взаимоотношения между людьми важнее планов и графиков.
Для речи представителей российской культуры типично сочетание импликации того, что предполагается известным всем и многочисленные и довольно пространственные отклонения от основного предмета разговора, английский разговор прямолинейный, логичный, последовательный, с вербальным выражением абсолютно всех компонентов высказывания8.
Интересными являются исследования взаимодействия между профессионалом и непрофессионалом и на уровне лексики. Например, в инструкции к точилке для ножей читаем следующее: «Возьмите точилку в руки. (Grab the sharpener with your hand). Сравнивая значение слов возьмите и grab, мы наблюдаем процесс генерализации в русском языке.
В результате небольшого эксперимента, проведенного нами со студентами-лингвистами, обнаружилось следующее: при переводе инструкции «Clean knife blade thoroughly» на русский язык были предложены такие варианты: тщательно очи-стите/промойте/протрите лезвие ножа. Словарное значение глагола to clean имеет все перечисленные значения. По нашему мнению, русские глаголы по-разному описывают данную ситуацию в свете дискурсного анализа.
Более того, приведенный пример доказывает национально-культурную специфику актуального членения предложения. Данное исследование имеет значимость для переводчиков, для бизнес-коммуникаций. Усложнение бытовых приборов, возрастание отрицательных последствий при несоблюдении правил пользования, межкультурные контакты - все это доказывает, что необходимо разрабатывать рекомендации, построенные на базе экспериментов.
В статье освящены лишь некоторые области нашего исследования, основной целью которого является моделирование оптимального коммуникативного поведения профессионала с учетом национально-культурных особенностей для обеспечения эффективного процесса общения на современном этапе развития мирового сообщества.
|
Власова Ю.А. , |
Национально-культурные особенности текстов инструктивного характера |
|
|
Список литературы Национально-культурные особенности текстов инструктивного характера
- Портнов А.Н., Смирнов Д.Г. Языковое сознание и семиотическое измерение глобализационных процессов.
- Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении. Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. С. 17, 25.
- Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М., 1997. С. 273.
- Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995. С. 15.
- Wierzbicka A. Semantics, culture and cognition. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992. С 108.
- Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении. С. 49
- Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб., 2001. С. 65.