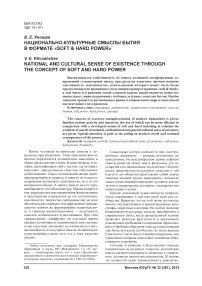Национально-культурные смыслы бытия в формате «soft & hard power»
Автор: Хвощев Владимир Ефимович
Рубрика: Политология и социология
Статья в выпуске: 32 (301), 2012 года.
Бесплатный доступ
Высказывается озабоченность по поводу излишней метафоризации современной гуманитарной науки, предлагается известное научное понятие «активности—пассивности», использование которого может быть более продуктивным по сравнению с получившим распространение «soft & hard», в том числе и в решении такой сложной задачи, какой является поиск национальных, цивилизационных и общекультурных смыслов бытия. Особое значение придается размыванию границ в современном мире и смысловым последствиям этого процесса.
Метафора, активность, национально-культурные смыслы бытия, граница
Короткий адрес: https://sciup.org/147150805
IDR: 147150805 | УДК: 141.411
Текст научной статьи Национально-культурные смыслы бытия в формате «soft & hard power»
Жизнь человека исторически связана с локальным пространством. Этим пространством во многом определяется человеческое мышление и общее представление о мире. В свою очередь, и человек, идентифицируя себя с местом, где он живет, наполняет определенным смыслом собственное существование. Смысл человеческой жизни имеет пространственную природу и зависит не только от содержания жизненного пространства, но и от его конкретного объема. А значит, зависит он и от ограничивающего этот объем контура. Можно спорить о том, насколько жесткие ограничения бытия человека в пространстве отражаются на его когнитивных способностях, творчестве, свободомыслии, но одно обстоятельство очевидно: государственные границы заметно влияют на формирование национального, а границы цивилизационные — культурного смыслов человеческого существования. При этом «разрыхление», «диффузия» тех или иных границ снижает устойчивость ограниченной ими системы и, как следствие, уменьшает ее стабильность и жизнеспособность из-за утраты смысла человеческого существования и всего того, что с этим смыслом связано.
Смысловые потери сообществ при интеграционных движениях — явление негативное, но преодолимое. На международном уровне дефицит смысла развития может иметь фатальные для государства или цивилизации последствия. Поэтому поиск национально-культурных смыслов и для власти и для общества представляет собой задачу, значение которой трудно переоценить, поскольку смысл существования определяет духовное, а вслед за ним и материальное состояние государства или цивилизации в целом.
Кризис жизненной осмысленности периодически переживают в той или иной мере все сообщества. Вероятно, что на этой почве состоялись многие государственные и цивилизационные катастрофы, известные в истории. Но особое значение национально-культурные смыслы приобретают в современную эпоху, когда просвещенный человек проявляет высокую критичность и предъявляет повышенные требования к содержанию происходящего. Проблема обретения смысла существования еще более актуальна для России, где после распада Советского Союза были стихийно разрушены или умышленно попраны смысловые основания общественного устройства.
Сегодня, отчаявшись в безуспешных поисках национально-культурных смыслов, российские власти пытаются развернуть общество к утраченным духовным ценностям социализма. В основе тех ценностей лежат справедливость, равенство,
В. Е. Хвощев патриотизм — все то, что по разным причинам отсутствует в нашей реальной жизни. Складывается ситуация, когда декларируемые государственной системой воспитания цели, не принимаются большинством населения, в том числе, и самой властью. Мало того, расхождение слова и дела повышает чувствительность политической системы общества к внутренним проблемам и внешнему влиянию.
В подобных условиях удержание власти становится невозможным без проведения изоляционистской политики, закрытия государственной границы, жесткого подавления оппозиции. Такой режим имеет мало общего с демократией, и с ним не легко смириться значительной части российских граждан.
Просоветской политике России нетрудно противопоставить курс на космополитическое развитие. Космополитизм в таком случае становится основанием вожделенной «национальной идеи», удобной для внедрения в массовое сознание. Именно к такому движению подталкивают развитые страны остальной мир, а их мощный и небескорыстный напор создает иллюзию глобальности и неизбежности намеченного ими тренда.
Вполне естественно, что космополитизм является идейным противником всяческих границ — в первую очередь, государственных, во вторую — цивилизационных, в третью — множества других границ жизненного пространства человека. Поэтому покушение на любые границы человеческого бытия можно с большой достоверностью квалифицировать как политику космополитизма, направленную на уничтожение национальных и культурных смыслов существования государств и цивилизаций.
Не случайно в последнее время отмечается рост научного интереса к проблемам границ и пограничной политики государств. Об этом свидетельствует тематика авторитетного азиатского форума The BRIT XII (Fukuoka-Busan 2012) «Borderland Voices: Shaping a New World Order», об этом говорят доклады и выступления участников XXII Конгресса Международной ассоциации политической науки (IPSA) «Reshaping Power, Shifting Boundaries», Шестого Международного экологического форума «Природа без границ» во Владивостоке, Четвертой Всероссийской научнопрактической конференции «Изменяющаяся Россия: проблемы безопасности и пограничной политики» и ряда других мероприятий.
Всех их объединяет понимание актуальности формирования последовательной пограничной политики, а разъединяет — оценка (негативная или позитивная) социально-политических процессов на современных границах — естественных или искусственных, лимитированных или нелимитированных, маркированных или немаркированных. Причем особенностью оценок — нуждающихся в обстоятельном подтверждении или опровержении — является превалирование космополитических позиций для внешних экспертов или изоляционистских — для внутренних.
Другими словами, национально-культурные смыслы существования народов, тесно связанные с государственными и цивилизационными границами, представляют собой основу для устойчивого развития этих субъектов и создают иллюзию угрозы для соседних сообществ.
Широкий смысловой диапазон человеческого восприятия действительности порождает конфликтные ситуации, разрешение которых, казалось бы, логичным искать в ненасильственных, «мягких» формах отношений между людьми.
Уместно заметить, что «мягкость» не является ни свойством, ни качеством, ни характеристикой отдельного объекта. «Твердая» сталь может оказаться «мягкой» относительно алмаза или действительно «твердой» по отношению к дереву. Поэтому правильно рассматривать «мягкость» как показатель взаимодействия объектов, как меру влияния одного на другое. В таком случае «мягкость» означает отсутствие влияния объекта при взаимодействии, а «твердость» — степень такого влияния того или иного объекта.
Может показаться, что «мягкое» («soft») взаимодействие в гуманитарной области, по сути, синоним ненасилия. Однако в сфере человеческих отношений за «мягкость» нередко выдается виртуальная угроза насилием, что по степени влияния объектов при подобном взаимодействии является «твердым» («hard»), пусть и не материальным. Иначе говоря, при оценке по шкале «мягкий-твердый» («soft-hard») необходимо учитывать не только материальную сторону отношений, но и влияние полей («излучений»), зачастую определяющих сущность взаимодействия, а в человеческих контактах — их виртуальную составляющую.
Современный дискурс, согласно такому понятию, является «мягким» («soft discurce»): он самодостаточен, некритичен, беспринципен, неконструктивен и в мировоззренческом плане бес-смысленен. Обретение смысла «мягким дискурсом» прямо связано с его ужесточением и догматизацией, поскольку «hard discurce» есть догма.
Критически рассматривая метафору «мягкого-твердого» взаимодействия, нетрудно найти ей более точный, вполне научный и близкий по смыслу аналог. Для этого достаточно обратиться к центральным понятиям теории активности1 и соотнести мягкие формы взаимодействия с пассивными, а твердые — с активными формами. Такой прием позволяет не только уточнить смысл употребляемой метафоры, но и продемонстрировать условность ее сравнения с научной категорией.
Выше отмечалось, что «мягкость-твердость» не является качеством субстанции, а лишь относительной характеристикой взаимодействия объектов. Подобная логическая «незавершенность» присутствует в любой метафоре. В свою очередь, «активность-пассивность», обладая сравнительным потенциалом при оценке взаимодействия, выступает еще и как имманентно присущее свойство всех материальных образований. Следовательно, сравнение метафоры «мягкий-твердый» с научным понятием «активный-пассивный» корректно лишь в узких рамках взаимодействия объектов, но не исследования их сущностных основ — той сферы, где скрыты действительные смыслы происходящего.
Важно отметить, что метафоры «мягкое» и «твердое» характеризуют всего лишь одну из сторон взаи-
Политология
модействия: «мягкой власти» должна сопутствовать «твердая оппозиция» — подвластные объекты, относительно которых осуществляется власть. В свою очередь, и «твердой власти» противостоит «мягкая» гражданская сила. Но, когда «твердая власть» получает достаточно «твердое» противодействие, возникает вопрос — какая из сторон «мягче» (слабее), а какая «тверже» (сильнее). Решение этого вопроса и определяет дилемму «hard or soft power».
И еще один важный момент, вытекающий из многопланового релятивизма метафоры: «мягкость» и «твердость» могут сосуществовать в различных аспектах взаимодействия, проявлять диалектику противоположностей относительно разных сторон явлений или процессов. Так, «мягкое» или «твердое» взаимодействие по содержанию может совпадать или различаться в контексте той же метафоры по форме. Важно помнить, что сторонники идеи «soft power» чаще всего концентрируют внимание именно на форме влияния власти на подвластные объекты, рассчитывая на соответствующую «мягкую» реакцию общества на свои, по сути, «твердые» действия.
Несомненно, что вброс в научный анализ неопределенной метафоры «soft and hard» связан с идеологическими потребностями прежде всего власти и не содержит логического оправдания. Для исследовательских целей в этом направлении гораздо продуктивнее выглядит вполне проработанное понятие «активности-пассивности», в недрах которого и следует, по-видимому, искать национальные, цивилизационные и общекультурные смыслы бытия.
Список литературы Национально-культурные смыслы бытия в формате «soft & hard power»
- Хвощев В.Е. Теория активности: от истоков к началам: монография. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ; Изд-во ЮВИГ, 2008.