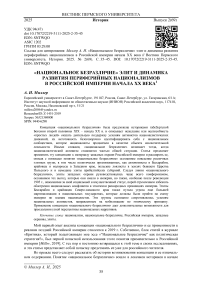«Национальное безразличие» элит и динамика развития периферийных национализмов в Российской империи начала XX века
Автор: Миллер А.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Пространства интеграции в Российской империи: разнообразие институтов и производство лояльности
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
Концепция «национального безразличия» была предложена историками габсбургской Богемии второй половины XIX – начала XX в. и описывает нежелание или неспособность «простых людей» оказать деятельную поддержку усилиям активистов националистических движений, их неготовность безоговорочно идентифицировать себя с национальным сообществом, которое националисты продвигали в качестве объекта исключительной лояльности. Иными словами, «национальное безразличие» возникает тогда, когда националистический активизм становится частью общей ситуации. Статья предлагает применить эту концепцию к материалу западных окраин Российской империи и расширить ее, описав с помощью понятия «национальное безразличие» осознанное поведение различных элитных групп, в том числе политически организованных, как автономисты в Бессарабии, крайовцы и малороссы в Западном крае, польские лоялисты в землях бывшего Царства Польского и и немецкие элиты прибалтийских губерний. Следуя линии «национального безразличия», элиты западных окраин руководствовались чаще всего конформизмом, осознанием тех выгод, которые они имели в империи, но также, особенно после революции 1905 г., опасениями за свой социальный и имущественный статус, порой стремлением избежать обострения национальных конфликтов в этнически разнородных провинциях империи. Элиты Бессарабии и крайовцев Северо-западного края также пугала угроза еще большей маргинализации в национальных государствах, которые должны были прийти на смену империи по планам националистов. Эти группы осознанно сопротивлялись усилиям национальных активистов, направленным на мобилизацию по этническому принципу. Применение концепции «национального безразличия» дает дополнительные возможности для преодоления узкой перспективы национальных нарративов.
Национализм, национальное безразличие, Российская империя, западные окраины, элиты
Короткий адрес: https://sciup.org/147250809
IDR: 147250809 | УДК: 94(47) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-35-45
Текст научной статьи «Национальное безразличие» элит и динамика развития периферийных национализмов в Российской империи начала XX века
Мой первый опыт анализа концепции «национального безразличия» и ее применимости к реалиям поздней Российской империи относится к 2019 г. Собственно, блок статей в журнале «Критика», который подытоживало мое эссе «“Национальное безразличие” как политическая стратегия?», был первой попыткой использования этого понятия применительно к Российской империи [ Miller , 2019]. С тех пор я постоянно возвращался к этой теме в своих исследованиях, и эта статья представляет собой попытку представить ее уже для российского читателя.
Но прежде всего следует рассказать об истории возникновения концепции и ее изначальном содержании. Понятие «национальное безразличие» вошло в лексикон историков в начале
XXI в. Первыми его начали использовать исследователи, изучавшие историю Богемии под властью Габсбургов в конце XIX – начале XX в. Богемия была идеальным местом для изучения того, как большие группы людей сопротивлялись попыткам втянуть их в противостояние двух мобилизованных национализмов – чешского и немецкого. Джереми Кинг написал книгу о локальной идентичности (Budweiser), которая сопротивлялась разлагающему влиянию националистической конфронтации, и использовал в этом контексте понятие «национальное безразличие» [ King , 2002, p. 3–4]. Питер Джадсон говорил о «национальном безразличии» в противовес национальному активизму, который стремился превратить этнически смешанные имперские пограничные территории в национальную собственность. Он показал, как данные переписи населения, касающиеся «родного языка», и карты, составленные на их основе, искажали и упрощали реальную ситуацию [ Judson , 2006]. Тара Зара рассказала о борьбе националистов за контроль над детьми, особенно сиротами [ Zahra , 2008]. Она включила понятие «национальное безразличие» в название своей книги. Вскоре за книгой последовала статья, в которой Зара попыталась придать «национальному безразличию» концептуальный характер, рассматривая его как часть не только позднеимперского периода, но и любой ситуации, связанной с националистической мобилизацией [ Zahra , 2010]. Зара утверждает, что понятие «национальное безразличие» следует искать у националистов, которые использовали его и подобные слова для выражения своего разочарования нежеланием или неспособностью «простых людей» оказать активную поддержку их усилиям, их неготовностью безоговорочно идентифицировать себя с национальным сообществом, которое националисты продвигали в качестве объекта исключительной лояльности. Иными словами, «национальное безразличие» возникает тогда, когда националистический активизм становится частью общей ситуации. В центре внимания при этом остаются «простые люди» и то, как прежние донационалистические идентичности и структуры взаимодействия «сопротивляются» новому времени. В большинстве случаев «национальное безразличие» используется для описания либо ситуации, когда националистическое движение борется за мобилизацию «простых людей», которые относятся к этой мобилизации враждебно или равнодушно, либо ситуации, когда при конкуренции двух групп националистических активистов «простые люди» стараются оставаться в стороне от логики этого противостояния, предполагающей разрушение «нейтральных» социальных пространств. Как справедливо отмечают критики концепции, понятие «безразличие» вызывает ассоциацию с пассивной реакцией, которая не всегда может служить верным ориентиром [ Bolin , Douglas , 2007, p. 15]. Зара считает, что «национальное безразличие» описывает три типа поведения: 1) «национальный агностицизм», «полное отсутствие национальной лояльности, поскольку многие люди сильнее идентифицируют себя с религиозными, классовыми, местными, региональными, профессиональными или семейными сообществами»; 2) «национально амбивалентное, оппортунистическое переключение c одной стороны на другую»; 3) приверженность двуязычию и открытость к бракам, выходящим за пределы этнических границ [ Zahra , 2008, p. 4; Zahra , 2010, p. 98]. После публикации статьи понятие «национальное безразличие» стало просачиваться в литературу, посвященную другим частям Австро-Венгрии, а также немецко-польскому и немецко-французскому пограничью (см. [ Bjork , 2008; Michalczyk , 2010; Vlossak , 2010; Carrol , Zanoun , 2011]).
С момента публикации статьи Т. Зара в 2010 г. мы стали свидетелями существенного географического расширения использования понятия «национальное безразличие», но более скромного прогресса в деле его концептуального уточнения. Конференция «Нации и национализм с окраин», прошедшая в Праге осенью 2016 г., попыталась сделать именно это. Она подтвердила, с одной стороны, что такие усилия по концептуализации предпринимаются, но также и то, что многое еще предстоит сделать. Вышедший в 2019 г. по итогам пражской конференции 2016 г. сборник статей National Indifference and the History of Nationalism in Modern Europe не сделал концепцию «национального безразличия» [National Indifference…, 2019] более проработанной и убедительной [ Berecz , 2019].
Тем не менее уже в этом «сыром» виде понятие оказалась весьма полезным, поскольку привлекает наше внимание к различным практикам избегания националистической мобилизации и предлагает новые способы преодоления национальных нарративов при изучении полити- ки идентичности в Восточной и Центральной Европе во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Российская империя представляет собой существенно иной контекст для развития национализма, чем монархия Габсбургов, особенно ее австрийская часть после австро-венгерского компромисса 1867 г. До 1906 г. в России не было ни легальной политической деятельности, ни более или менее массовых культурных организаций, сопоставимых с различными матицами, получившими такое широкое распространение в Австро-Венгрии (см. [The Matica and Beyond. Cultural Associations and Nationalism in Europe, 2020], где показана роль таких культурных ассоциаций именно как инструментов мобилизации в большей степени, чем инструментов удовлетворения существующего запроса (см. также более традиционный в подходе российский труд о матицах [Славянские матицы…, 1996]). Аналоги провинций (Land) с их провинциальным представительством и традицией местной и региональной лояльности были в Российской империи скорее исключением. К концу в эту категорию вписывалась только Финляндия, хотя некоторые остатки такой региональной традиции можно было обнаружить в западных и прибалтийских губерниях, а также в Бессарабии.
Конечно, внимание при рассмотрении применимости понятия «национальное безразличие» следует сосредоточить прежде всего на западных окраинах империи в самой широкой их трактовке – от Бессарабии на юге через Юго-Западный, Северо-Западный края и бывшее Царство Польское до губерний на балтийском побережье, т.е. на пространстве, которое постепенно превратилось в течение XIX в. в своеобразную лабораторию националистической политики.
История Российской империи предоставляет интересные примеры для изучения проявлений «национального безразличия» в среде «простых людей», т.е. слабо включенных в политическую жизнь крестьян и низших городских слоев. В статьях для форума в «Критике», посвященных Бессарабии (А. Куско) и прибалтийским губерниям (К. Брюггеманн и К. Везель), приводится множество интересных примеров, описывающих, как это «национальное безразличие» (или ги-бридность и а-национализм, как предпочитают называть это явление Везель и Брюгеманн) проявлялись в изучаемых ими регионах [ Cusco , 2019; Brüggemann , Wezel , 2019]. При этом обе статьи показывают, что рассматриваемый феномен касается не только «простых людей», но и групп, принадлежавших вполне зажиточным и образованным слоям. Изучение того, как «простые люди» избегают националистической мобилизации, ‒ задача, несомненно, важная, но в то же время сложная, поскольку источники не передают этот феномен в достаточной степени.
Бессарабия и Прибалтийские губернии, будучи окраинными регионами одной империи, представляют собой два разных «социальных ландшафта», где проявлялись как активность националистов, так и «национальное безразличие». В прибалтийских провинциях различные социальные группы немцев, изученные Брюггеманном и Везель, испытывали дискомфорт, вызванный растущим национализмом местных эстонцев и латышей, а также изменением отношения имперских властей к немцам. Последнее стало результатом объединения Германии и нарастающей с 1870-х гг. напряженности в отношениях между Петербургом и Берлином. Для своего времени это был достаточно урбанизированный и социально-экономически развитый регион. Это объясняет, почему немцы, жившие в городах, играли столь важную роль в этой истории. Их позиция существенно отличалась от позиции крупных землевладельцев региона, которые в то время также не были едины. Однако общей чертой во взглядах всех этих групп было отсутствие ирредентизма, т.е. стремления «воссоединения» с Германией.
Объединенная Германия в эпоху Бисмарка была подчеркнуто осторожна в отношении российских немцев, тем более никогда не ставила официально вопрос о прибалтийских губерниях. В этих условиях выступление с позиций немецкого ирредентистского национализма со стороны прибалтийских немцев было бы в высшей степени нерасчетливо. Из-за своего уязвимого положения в демографической структуре региона и привилегированного статуса как в провинциях, так и в империи в целом, немецкие элиты прибалтийских губерний, за редким исключением, сохраняли свою лояльность Российской империи вплоть до того момента, когда империя начала разваливаться в ходе революционного кризиса 1917 г.
Если балтийские провинции были объектом сдержанной, но напряженной межимперской конкуренции, то Бессарабия была единственным регионом, где империи противостояло отно- сительно небольшое национальное государство – Румыния. В отличие от балтийских провинций, этот регион был преимущественно сельскохозяйственным и довольно отсталым, в нем не было политически влиятельных слоев городского населения. В отличие от прибалтийских губерний, Бессарабия была ареной деятельности русских националистических и правомонархических организаций. Если прибалтийские губернии никогда не рассматривались русскими националистами как часть национальной территории или объект интенсивной ассимиляции, то Бессарабию считали регионом, который потенциально мог стать частью русской национальной территории, даже несмотря на то, что ее крестьяне не говорили на славянском языке. Зато местные крестьяне были православными. В регионе не было этнической раздробленности, как в прибалтийских губерниях; не было и противостояния между двумя нерусскими группами, претендующими на эту землю как «свою». Однако «еврейский вопрос» стоял остро: в Кишиневе в 1903 г. произошел самый кровавый погром в истории империи мирного времени, массовый антисемитизм давал русским националистам инструмент для мобилизации крестьян. Культурная идентичность немцев в прибалтийских губерниях была вполне определенной, в то время как культурная идентичность бессарабского населения, включая местную элиту, всегда была предметом переговоров.
Это сравнение показывает, что регионы существенно различаются по социальным характеристикам, этноконфессиональному составу и геополитической ситуации. Одним из ключевых аспектов изучения «национального безразличия», вероятно, должно стать исследование того, как явления, описываемые этим термином, различаются в зависимости от социальноэкономического, этнического и (гео)политического контекста.
Это довольно обширная тема, но есть один аспект, который кажется особенно интересным, а именно сознательное и рационально мотивированное сопротивление этнонационалисти-ческой мобилизации со стороны элитных групп. Это фактически ломает концепцию «национального безразличия», которая до сих пор основана на противопоставлении националистов и «простых людей». Элитные группы в Российской империи сознательно отказывались идентифицировать себя с национальными проектами чаще, чем в Габсбургской монархии.
Андрей Куско показал [ Cusco , 2019], как это происходило в Бессарабии, где кишиневская элита не была готова принять румынский национализм, поскольку, во-первых, не хотела начинать конфликт с империей, где и так жилось вполне комфортно, во-вторых, обоснованно не ожидала провинциальной автономии для Бессарабии и достойного статуса для себя в унитарной и энергично национализирующейся Румынии. Подобный скептицизм сохранялся до 1918 г., но, когда провинция столкнулась с угрозой массового насилия со стороны дезертиров из развалившейся русской армии, способность румынских частей поддерживать дисциплину стала решающим фактором.
В Российской империи различные примеры «национального индифферентизма» среди элит, т.е. сопротивления отдельных представителей привилегированных групп или их политически организованных представителей мобилизации, вызванной активным национализмом, можно найти по всей полосе разнородных западных окраин. В Литве существовало как минимум две группы (консервативная и демократическая) так называемых крайовцев, в основном представителей местной знати, для которых польский язык был основным. Они не хотели придерживаться идеи польской нации с центром в Варшаве, а предпочли этнически инклюзивную местную общность, уходящую корнями в традиции Великого княжества Литовского, со своими особыми интересами и идентичностью, включающей как литовский, так и польский культурный капитал (работы о феномене крайовцев выходили на литовском, польском и белорусском; см., например, [Kraevaia ideia…, 2014; Krajowość – tradycje zgody…, 1999; Smalianchuk, 2000]). Их идентичность можно охарактеризовать как гибридную, а идеологию ‒ как версию гражданского национализма. Но даже если согласиться с этим определением, национализм крайовцев находился в сильной оппозиции к польской и литовской версиям исключительного этнолингвистического национализма. Трудно сказать, в какой степени эти версии преобладали в начале ХХ в. на северо-западе Российской империи, но они определенно доминируют в исторических нарративах региона. Крайовцы являются интересным сравнительным примером с Бессарабией, поскольку сопротивление местных элит националистическому проекту в обоих случаях было в значительной степени мотивировано страхом оказаться маргинализированными в рамках польского или румынского национального государства.
Мои собственные исследования более всего касались еще одного варианта такого элитного сопротивления националистической мобилизации, который имел место в юго-западных губерниях среди представителей малороссийского дворянства, а в начале ХХ в. также среди значительного числа образованных городских жителей, которые в разной степени проявляли гибридную идентичность и сопротивление как русским, так и украинским национальным активистам. Отличительной, можно даже сказать уникальной, чертой Юго-Западного края было то, что украинский национализм противопоставлялся имперскому общерусскому национализму как его главный противник [ Миллер , 2024]. Среди сторонников малороссийской идентичности, настороженно относившихся к обоим типам националистического радикализма, действовали украинские активисты и антиукраинские активисты, отстаивавшие идею общерусской нации.
Жалобы на «национальное равнодушие» малороссийских помещиков со стороны украинских националистов стали неотъемлемой частью этого движения с 1850-х гг. В октябре 1858 г. Пантелеймон Кулиш, один из основателей первой украинской националистической организации, Кирилло-Мефодиевского общества, писал славянофилу Сергею Аксакову: «Свободы слова мы, Малороссияне, лишены более, нежели какая-либо народность в Русской Империи.. . Мы имеем против себя не одно Правительство, но и ваше общественное мнение. Мы имеем против себя даже собственных земляков-недоумков» (ГАРФ. Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 1. Ед. хр. 1762. Л. 1–2). Кулиш был прав в своей оценке, и один из этих «земляков-недоумков» четко объяснил причины своей позиции. В декабре 1859 г. Сильвестр Гогоцкий, профессор Киевского университета, писал своему корреспонденту, находившемуся в Санкт-Петербурге: «Вообще в вашем букваре вы, заметно, желаете поставить наш народ во враждебное отношение к России… Этим вы, даже если судить по расчету, поступили неловко, потому что вы накликаете нам вместо одного врага – Ляха, двух: Ляха и Русского. Понять не могу, каким же образом мы удержимся при двух врагах, когда нас держит единственно Русское Правительство. Мои выводы следующие: Мы должны… поддерживать впредь мысль о единстве трех племен Русских; без этого единства мы погибнем и очень скоро» (ГАРФ. Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 1. Ед. хр. 1763. Л. 3–4 об).
Это наглядно раскрывает одну из главных причин негативного отношения малороссийской элиты к украинской идее отдельного национального существования – страх перед польской угрозой. Эта причина была унаследована от донационалистических времен, но оставалась актуальной вплоть до последних десятилетий империи, когда она частично получила подтверждение.
С этим был связан еще один мотив, который можно отнести к фактору традиционной лояльности, – династическая верность. Павел Скоропадский, вскоре после того как он покинул Украину после недолгого гетманского правления, писал воспоминания о своем детстве в 1870-х гг.: «Украина понималась как славное родное прошлое, но отнюдь не связывалась с настоящим, другими словами, никаких политических соображений, связанных с восстановлением Украины, не было. Моя вся семья была глубоко предана российским царям, но во всем подчеркивалось как-то, что мы не великороссы, а малороссияне, как тогда говорилось, знатного происхождения» [ Скоропадський , 1995, c. 387].
С 1870-х гг. в некоторых левых кругах малороссийской образованной среды стал актуальным новый мотив – участие в общем освободительном движении. Михаил Драгоманов писал в 1875 г. об «общей интеллигенции русской или российской, которая складывается из великорус-сов и малоруссов» (Русский вестник, 1875, c. 837). Драгоманов считал, что русская культура богаче, поэтому нет необходимости отчуждаться от нее. Требование ввести украинский язык в качестве основного и даже единственного языка обучения в школах он считал «скорее деструктивным, чем конструктивным». Он признавал, что протесты крестьян против таких планов «действительно имели место» и были вполне обоснованными, поскольку «это ограничило бы крестьян… 10‒15 украинскими книгами» [Драгоманов, 1999, c. 211–212]. Он считал введение русского языка в украинских школах «исторически неизбежным фактом» [Там же]. В этом он очень похож на гораздо более умеренных малороссов. Консервативная газета «Киевлянин» отрицала не малорусскую специфику как таковую, но любые попытки представить ее как основу для политической программы, тем более для национального и политического самоопределения.
Этот мотив, с вариациями, оказался очень живучим. Евген Чикаленко, лидер украинского национального движения в первые десятилетия ХХ в., жаловался на тех помещиков, которые отказывались жертвовать на украинскую газету «Рада», потому что она не использовала язык народа и вступала в ненужную конкуренцию с русским языком и русскими газетами. Его дневник полон горьких отзывов о таких «национально равнодушных» людях. Чикаленко в своих дневниках дает описания таких людей, которых он старался обратить в правильную веру и привлечь к движению: «Родом он черниговец, но из-за того, что всю жизнь прожил за пределами Украины, он воспитался, как и большинство украинских интеллигентов, на общеросса» [ Чика-ленко , 2004, c. 319]. «Он, без сомнения, испытывает стихийную любовь к украинству, но в возрождение нашей нации, очевидно, не верит, да и не думал никогда об этом. Он с отвращением относится к украинскому литературному языку, считает его калеченьем милой его сердцу народной мовы, хотел бы, чтобы газета писалась мовой Шевченко, Котляревского, а в тех случаях, когда слов не хватает, следует брать, по его мнению, всем уже известные русские слова» [Там же, c. 68]. Этих «национально равнодушных» земляков Чикаленко четко противопоставляет активным оппонентам украинского движения, для них у него есть иные определения: «вражьи землячки», «наши перевертни, которые зовут себя русскими националистами», «черносотенные малороссы» [Там же, c. 93, 188, 256].
Сразу после революции 1905‒1906 гг. местные малороссийские помещики были озабочены в основном сохранностью своих земельных владений. Украинский активизм воспринимался как дестабилизирующая антиправительственная сила, и поэтому он не мог рассчитывать на их поддержку. Вскоре после революции малороссийские помещики даже были склонны сотрудничать с польскими помещиками на выборах в Думу, которые были введены в 1906 г. Столыпинскому правительству потребовались определенные усилия, чтобы расколоть избирательный блок местных помещиков по этническому признаку, противопоставив польских и русских (в том числе малороссийских) помещиков [ Мартинюк , 2016].
Завершим эту подборку иллюстраций фрагментом из воспоминаний Скоропадского, в котором он рассказывает о своем разговоре в августе 1917 г. с генералом Лавром Корниловым по поводу плана Корнилова приказать украинизировать корпус, которым в то время командовал Скоропадский: «Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление скорее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серьезной данной для развития украинства в нежелательном для России смысле... Легкомысленное же отношение Корнилова к этому вопросу показало мне его неосведомленность или непонимание. Я старался обратить его внимание на серьезность вопроса, понимая, что к такому национальному чувству, какое было у украинцев, надо относиться с тактом и без эксплуатации его из-за его искренности» [ Скоропадський , 1995, c. 64]. Это высказывание наглядно показывает, насколько Скоропадский настроен против украинских активистов, настаивая при этом на том, чтобы с национальными чувствами украинцев обращались очень осторожно. Даже летом 1917 г. идеал независимой Украины не нашел у него отклика. Показательна и реакция Корнилова: настаивая на своем подходе, он демонстрировал, что по-прежнему считает проблему национализма менее важной и опасной, чем влияние социалистов-революционеров.
Поляки были группой, в которой антиимперское сопротивление и национализм имели наиболее глубокую традицию. Польское влияние и образцы были важны в XIX в. при становлении других национализмов на западных окраинах империи. Тем интереснее запись в дневнике Яна Хупки, польского землевладельца из Галиции, видного публициста и общественного деятеля, активного сторонника Юзефа Пилсудского и его легионов во время Первой мировой войны. В 1915 г., оценивая после Горлицкого прорыва возможности пополнения легионов добровольцами на территории бывшего Царства Польского, Хупка писал: «Хуже всего обстоит дело у границы, где люди зарабатывают контрабандой, которая бы закончилась, если бы границы там не было. Дальше от границы дела обстоят не так плохо, но и здесь нет надежды, что крестьяне добровольно вступят в ряды легионеров. Были бы от них рекруты, но только по приказу. Не раз слышали от войтов и старост, что как будет приказ – дадут рекрутов, а без приказа – нет. Города Королевства страшно объевреены, причем здесь не только те евреи, что уже давно живут, но и тысячи литваков, которых москали сюда впихнули для деморализации и русификации Королевства. Здесь тысячи евреев вообще не понимают по-польски. Так что антисемитизму в Королевстве не стоит удивляться. Католические фабриканты в угольном бассейне, а особенно в Лодзи в большинстве настроены пророссийски, потому что при изменении границы потеряли бы огромные рынки сбыта. Кто остается? Рабочие и горсть интеллигенции свободных профессий. Только среди них можно найти более многочисленных добровольцев для легионов. Все остальные либо выжидают, либо относятся отрицательно. Может быть? что-то поменялось бы к лучшему, если бы после какого-то успеха немцев перестали бояться возвращения москалей, а немцы бы объявили, что не хотят изменений границы за счет Польши. Пока же картина печальная, поразительно печальная» [Hupka, 1936, s. 67] (похожие рассуждения можно также найти на страницах 118, 152, 176, 198, 228)).
Оставив в стороне антисемитские рассуждения Я. Хупки, которые мы сохранили в этой цитате, чтобы не нарушать ее целостности, обратим внимание на то, что для каждой социальной группы поляков Я. Хупка находит именно рациональное объяснение «национального безразличия», не прибегая к рассуждениям о непросвещенности и косности мышления «темных» людей. Это и экономические интересы, связанные с российским рынком, и боязнь мести со стороны российских властей, если успех Горлицкого прорыва окажется краткосрочным, и опасение перемен к худшему в условиях немецкого доминирования в регионе.
Чтобы понять механизмы сопротивления элитных групп этнонационалистической мобилизации в Российской империи, необходимо помнить, что образ суверенного национального государства в начале XX в. не был доминирующим в сознании большинства политиков, принимавших решения о будущем Европы. Достаточно прочитать опубликованные в январе 1918 г. «Четырнадцать пунктов» Вильсона, прежде всего пункты 6, 10 и 12, чтобы увидеть, что даже в тот момент мировые лидеры ожидали от имперских структур России, Австро-Венгрии и даже Османской империи сохранения через трансформацию. Безусловный национальный суверенитет и отдельное национальное государство рассматривались перед Первой мировой войной как радикальная и революционная идея и по этой причине не могли иметь широкой поддержки среди провинциальных элит. Опыт 1905 г. с массовым разграблением помещичьих имений стал предупреждением о масштабах бедствий для крупной собственности, особенно в этнически смешанных районах в условиях глубокого революционного кризиса. Привилегированные горожане с опаской относились к радикальному этническому национализму по той же причине. Наблюдение Хупки справедливо: именно интеллигенция (и то не вся) в основном поддерживала культурный, языковой и этнический национализм после 1905‒1906 гг.
Освобождение нашего видения ситуации начала прошлого века от доминирующих национальных нарративов – длительный процесс, развивающийся сегодня параллельно с агрессивным стремлением к ренационализации, переутверждению национальных виктимных нарративов в рамках деколонизаторского дискурса. Важная веха – сформулированный в 2009 г. тезис Юргена Остерхаммеля о том, что длинный XIX в. был не веком национальных государств, а веком империй и национализма [Osterhammel, 2009]. Исследования, так или иначе вдохновленные концепцией «национального безразличия», также вносят существенный вклад в тенденцию переоценки роли национализма и националистической мобилизации не только в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, но даже во время войны, ставя под сомнение масштаб влияния национализмов в имперских провинциях. Вот как описывает опыт развала Австро-Венгрии в одной из своих недавних публикаций Питер Джадсон: «К 1918 г., когда имперское государство уже не могло обеспечить его населению физическое выживание, административные связи центра с регионами начали разрушаться. Государственные чиновники уже не могли контролировать забастовки, массовое насилие и погромы, они не могли обеспечить минимальные поставки продовольствия и топлива. Когда оставленные один на один с проблемами мест- ные администраторы предпринимали независимые действия, они делали это, руководствуясь более региональными причинами и контекстом, чем националистическими резонами… Как мы знаем из последующей истории, много усилий было положено на то, чтобы ретроспективно придать этим изменениям более явное националистическое значение… Было бы большой натяжкой назвать эти революции национальными революциями… Если мы зададимся вопросом “кто был тогда субъектом, актором, бенефициаром демократии?”, мы сможем увидеть проблему более ясно. В 1919 г. это была идея нации как таковая, общность (а точнее, выступавшие от ее имени), чьи демократические права стояли в центре большинства дискурсов и политики. Но это не был индивид. Связь между идеей национального самоопределения и демократией – которая абстрактно понималась как народный суверенитет – сделала идею национальной общности воплощением демократии. Даже беглый взгляд на последующую историю региона показывает, что в действительности индивидуум был намного более ограничен требованиями принадлежности к нации после 1918 г., чем до этого требованиями принадлежности к империи. Грубо говоря, там, где империя в основном избегала приписки к национальности, национальное государство настойчиво этого требовало» [Judson, 2023, p. 32–33].
Применительно к Российской империи картина осложняется революцией 1917 г., выдвижением классового подхода и связанных с ним практик дискриминации и продолжением Первой мировой войны еще более разрушительными и кровопролитными гражданскими войнами. Такого рода конфликты на пространстве бывшей Габсбургской монархии были, по сравнению с рухнувшей Российской империей, краткими и ограниченными по масштабам эпизодами. Но в целом рассуждения Джадсона о постгабсбургском пространстве вполне применимы и к постромановскому. Хотя Джадсон не формулирует этого эксплицитно, он явно понимает, что «национальное безразличие» было свойственно не только простому обывателю, но и многим элитным группам, в том числе таким, которые активно участвовали в политике. Использование понятия «национальное безразличие» как способа описания политических стратегий – это важный ресурс для более целостного понимания политических процессов в Российской и Габсбургской империях конца XIX и начала XX вв.