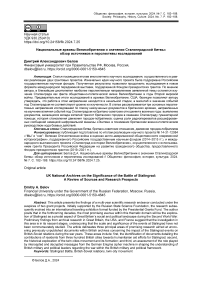Национальные архивы Великобритании о значении Сталинградской битвы: обзор источников и перспективы исследований
Автор: Белов Дмитрий Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена итогам многолетнего научного исследования, осуществленного в рамках реализации двух грантовых проектов. Изначально идея научного проекта была поддержана Российским государственным научным фондом. Полученные результаты позволили продолжить исследования в новом формате международной передвижной выставки, поддержанной Фондом президентских грантов. По мнению автора, в ближайшие десятилетия наиболее перспективным направлением заявленной темы останется изучение Сталинграда как факта общественно-политической жизни Великобритании в годы Второй мировой войны. Предварительные итоги исследований в архивах Великобритании, США, Франции позволяют автору утверждать, что работа в этом направлении находится в начальной стадии, а масштаб и значение событий под Сталинградом не соответствуют уровню их изученности. В статье рассматривается три основных перспективных направления исследований по поиску неизученных документов в британских архивах, направленных на изучение влияния событий под Сталинградом на британо-советские отношения в военные годы: выявление документов, касающихся вклада жителей трехсот британских городов в оказание Сталинграду гуманитарной помощи; история становления движения городов-побратимов; оценка роли радиоперехватов расшифрованных сообщений немецкой шифровальной машины «Энигма» в понимании британским военно-политическим руководством хода боевых действий.
Сталинградская битва, британо-советские отношения, движение городов-побратимов
Короткий адрес: https://sciup.org/149145566
IDR: 149145566 | УДК: 930.25(410) | DOI: 10.24158/fik.2024.7.25
Текст научной статьи Национальные архивы Великобритании о значении Сталинградской битвы: обзор источников и перспективы исследований
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
За последние десятилетия все большее количество рассекреченных документов по истории Сталинградской битвы постепенно вводится в научный оборот. Заметным событием в отечественной историографии сражения стала публикация в 1995 г. огромного, по современным меркам, тиража в 10 тыс. экземпляров сборника «Сталинград, 1942–1943. Сталинградская битва в документах» под редакцией А.А. Гурова. Он содержит комплекс советских и немецких исторических архивных документов. Впервые в нем были представлены переводы дневников хода боевых действий групп армий противника «А», «Б» и «Юг»1.
В 2000 г. интерес у исследователей к истории ранее засекреченных событий вызвала работа «Сталинградская эпопея», содержащая материалы Центрального архива ФСБ РФ. Впервые здесь были опубликованы воспоминания генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, дневники и письма солдат РККА и вермахта, агентурные донесения, протоколы допросов немецких военнопленных, докладные записки особых отделов фронтов и армий2. Последующие попытки научных коллективов периодически (под юбилейные даты) издавать массивы неопубликованных материалов по истории сражения можно считать неудачными, т. к. по своему содержанию они не вводили в научный оборот ранее неизвестную информацию и либо полностью повторяли уже изданное в 2000 г.3, либо «дополняли» материалы 1995 г. сводками Совинформбюро, не представляющими никакого научного интереса для современного исследователя4.
Более удачными можно считать сборники, содержащие документы как центральных, так и региональных архивов, впервые представившие к изучению материалы, касающиеся деятельности Сталинградского городского комитета обороны5, посвященные аспектам жизни и труда воен-нопленных6, вопросам разминирования и первых мероприятий по восстановлению Сталинграда после сражения7.
К сожалению, публикация материалов, выходящих за рамки изучения хода боевых действий под Сталинградом, становится исключением из общей тенденции. Международное значение Сталинградской битвы в восприятии иностранцев в военные годы – традиционно редкий объект для изучения. На наш взгляд, ошибочно считать продолжение поисков в этом направлении исчерпанным и бесперспективным. Отечественные ученые продолжают публиковать материалы зарубежных периодических изданий военных лет, касающиеся формирования и эволюции общественных представлений в США и Великобритании о ходе и значении боевых действий на советско-германском фронте8, а также о роли Красной армии и оценке перспектив послевоенного сотрудничества с СССР9.
Автору данной статьи представляется важным обратить внимание на возможности научнопоисковой деятельности по выявлению неопубликованных документов в иностранных архивах в контексте изучения влияния событий коренного перелома в войне (на примере боев под Сталинградом) на общественное мнение и корректировку военно-политических планов союзников. На наш взгляд, в ближайшие десятилетия наиболее интересным и перспективным является изучение Сталинграда как яркого, заметного факта общественно-политической жизни Великобритании в военные годы.
В данной статье предпринята попытка обозначить основные направления этой работы в Национальных архивах Великобритании (The National Archives). С практической точки зрения это направление позволяет не только обозначить влияние сражения на политику союзников, но и использовать этот архивный материал при создании документальных фильмов или международных выставочных проектов. Наиболее интересная часть документов, выявленных в ходе данного исследования, была использована при создании и реализации на территории Великобритании и России международного выставочного проекта «Сталинград в истории Великобритании» в 2019 – 2020 гг.1
Крупный специалист в области изучения общественного мнения Великобритании в годы Второй мировой войны, доктор философии, преподаватель истории Ливерпульского университета, профессор Филипп Белл, изучая на основании анализа огромного количества архивных документов влияние общественности на политику британского правительства в 1942–1943 гг., приводит в своей монографии применительно к этому периоду «четыре отдельных аспекта», касающихся оценочных суждений британцев о Советском Союзе: 1) политика государственной пропаганды; 2) агитация за открытие второго фронта в 1942 г.; 3) энтузиазм населения в связи с успехами под Сталинградом; 4) празднование Дня Красной армии в феврале 1943 г. (Bell, 1990: 68). Последние два ярких «аспекта» политической жизни Великобритании, имевшие прямое отношение к событиям под Сталинградом, привели его к пониманию, что именно они стали «апогеем той руссомании, которая охватила страну» с начала 1942 г. по февраль 1943 г.
Победа под Сталинградом вызвала очередную волну просоветских настроений в британском обществе, рост интереса к культуре, истории СССР, характеру советской политической системы, хотя и не без сомнений в отношении коммунистического режима и проводимой советской политики. На его взгляд, главной задачей исследователей в первую очередь должно стать изучение влияния Сталинградского сражения на мысли и чувства британского народа (Белл, 1994: 373). Трудно с ним не согласиться. Это направление исследований периода коренного перелома в войне интересно и с точки зрения выявления масштаба, спектра чувств, симпатий, глубины сочувствия жителей Великобритании к защитникам и населению Сталинграда.
К списку направлений исследований следует отнести и выявление комплекса архивных документов, касающихся организации широкомасштабных кампаний по сбору британцами гуманитарной помощи для жителей Сталинграда. Материалы десятков архивов и музеев Великобритании на сегодняшний день позволили автору данной статьи документально подтвердить участие в сборе и отправке добровольных пожертвований в адрес Сталинграда жителей 307-ми населенных пунктов страны. Первые итоги работы автора в британских архивах и музеях Великобритании в этой области были опубликованы ранее, но список городов и поселков оказался далеко не полным, и перспективы продолжать исследования в этой области подтверждаются единичными публикациями британских ученых. Как правило, эти работы не выходят за рамки региона, поэтому масштабы сбора гуманитарной помощи ограничиваются документами региональных архивов и материалами местной периодической печати военного времени.
Например, доктор наук, преподаватель факультета истории, политологии и философии Манчестерского университета Кэтрин Дэнкс в своей публикации попыталась проследить, насколько военное сотрудничество и межгосударственные отношения работали в регионах страны. Изучив эту деятельность на местах, преимущественно в промышленном центре – Манчестере и в других городах, она смогла подчеркнуть в этой межгосударственной работе роль многочисленных региональных фондов помощи России, женских организаций, англо-советских комитетов дружбы. В ней К. Дэнкс смогла выделить связь между первыми контактами советских и британских городов (Манчестер и Москва, Коатбридж и Ленинград, Ковентри и Сталинград), которые станут прообразами международного муниципального партнерства (Danks, 2015).
Важно подчеркнуть, что данное направление исследований крайне мало изучено и является вторым, выделяемым нами перспективным направлением. Формат этих межмуниципальных международных связей – прямое следствие первых успешных контактов британского города Ковентри и Сталинграда, что подтверждает сохранившаяся Книга приветствий женщин Ковентри, датируемая октябрем 1941 г.2 Анализ документов позволяет утверждать, что историю этих контактов следует вести с октября 1941 г., а не с октября 1942 г., как это ошибочно сложилось в советской историографии (Атопов, 1987: 82; Монько, 1972: 62).
Следует отметить, что эти события стали основой появления впервые в истории международных отношений нового инструмента «народной дипломатии» – движения городов-побратимов, что подчеркивает и политическую актуальность данного направления исследований. Разночтения в историографии касаются официальной даты окончательного оформления побратимских связей. Основной комплекс неопубликованных документов по этому вопросу сосредоточен в Национальных архивах Великобритании, в городском архиве и Музее-галерее им. Герберта г. Ковентри. Наибольшую научную ценность представляют постановления муниципалитета, хранящиеся в городском архиве.
Их анализ позволяет считать началом официального оформления побратимских связей между двумя городами 6 июня 1944 г. В день открытия второго фронта в Европе, что является случайностью, городским советом Ковентри было принято решение, имевшее подчеркнуто рекомендательный характер, предпринять официальные шаги по установлению между муниципалитетами Ковентри и Сталинградом «обязательств дружбы». Учитывая сходства двух городов «в промышленности и в военном опыте», с этой инициативой выступил местный Комитет Англо-советского единства (позднее переименован в «Комитет дружбы со Сталинградом»). «Обязательство дружбы», как указывалось в этом документе, не должно нести финансовые обременения для сторон, кроме случаев, специально ими одобренных. Под таким общим названием этой инициативы официально утверждались намерения развивать и поддерживать взаимный обмен визитами, установление «дружбы по переписке», обмен литературой и информацией и «в поощрении, в целом, взаимной дружбы и готовности помочь». Отдельно совет рекомендовал создать для реализации этой инициативы при муниципалитете «Объединенный комитет» из шестнадцати членов1.
Из материалов местной прессы видно, что многие члены городского совета были против, но большинством голосов решение было принято с учетом обязательного включения в совет Комитета лидеров профсоюзов, учителей, членов торговой палаты, сделав Комитет в обновленном составе более представительным2. Это решение отчасти отражало внутренние разногласия разных политических сил в городском совете. Кроме того, в историографии отсутствует ясность по поводу той роли, которую сыграл в создании Комитета лидер местных лейбористов, впоследствии лорд-мэр города Джордж Ходжкинсон, активно развивавший в 80-е гг. побратимские связи с Волгоградом. В своих мемуарах, к сожалению, он скромно не пишет о своей роли в становлении движения городов-побратимов и первых контактах со Сталинградом3. Возможно, введение в научный оборот его второй, но неопубликованной рукописи «Coventry’s Friendships. The Search for International Un-derstanding» («Дружба Ковентри. Поиск международного взаимопонимания») сможет пролить свет на первые страницы истории движения и роль этого человека в его послевоенном развитии.
Необходимо подчеркнуть, что первые итоги данного исследования были представлены на авторской передвижной выставке «Сталинград в истории Великобритании» в 2021 г., открытой в Ковентри лорд-мэром города и послом РФ в Великобритании А. Келиным. Таким образом, впервые региональный исторический материал Волгограда и Ковентри был вынесен на международный уровень обсуждения.
Анализ британской прессы свидетельствует, что побратимские связи между Ковентри и Сталинградом во время войны представлялись английской стороне гарантом послевоенного мирного сотрудничества двух стран. Эти связи всегда служили примером для советского партийного руководства в развитии сотрудничества между муниципалитетами4. Руководство СССР считало, что через расширение культурного и научного партнерства можно донести свою официальную позицию до международной общественности по актуальным проблемам внешней политики.
С началом холодной войны движение Ковентри и Сталинграда медленно расширялось и использовалось как инструмент демонстрации и обсуждения на высоком международном уровне разных инициатив муниципалитетов, касающихся общемировых проблем послевоенного мироустройства, гонки вооружения, угрозы ядерной войны. Это развитие было не безоблачным. Бюрократизм, тотальный контроль за перепиской, даже по самым незначительным вопросам, сдерживали советские инициативы. Проведение совместных фотовыставок, регулярные визиты делегаций рабочих и студентов, участие в работе научных конференций, налаживание связей между профсоюзными, молодежными, религиозными организациями – это далеко не полный перечень инициатив британской стороны, которые так и не были реализованы в полном объеме, что сводило в годы холодной войны движение побратимов к формату «политического туризма».
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что апогеем, кульминацией формата этих отношений, который подвел главный итог первого десятилетия нового движения, стала инициатива «Комитета дружбы Ковентри и Сталинграда» в ноябре 1954 г., заключавшаяся в организации подписания совместного Обращения к Комиссии ООН по разоружению с призывом запретить военное применение водородной бомбы. В ходе визита лорд-мэра Ковентри Джона Феннела и председателя исполкома горсовета Сталинграда С.Н. Шапурова 10 ноября 1954 г. такой документ впервые в истории дипломатии был обсужден и подписан. За последние 80 лет два муниципалитета двух стран, переживших войну, больше никогда не выступали сообща на таком высоком международном уровне с совместными инициативами в качестве активных субъектов международного права.
Вместе с тем за прошедшие 80 лет побратимства, несмотря на взлеты и падения в развитии британо-советских отношений, «узы дружбы» между двумя городами-побратимами приостанавливались в самые тяжелые периоды холодной войны, но никогда официально не разрывались, демонстрируя удивительную стойкость.
Есть ли потенциал для развития у движения городов-побратимов; как обозначить стратегические цели его развития; кто и как будет наполнять конкретным проектным содержанием это движение для развития межкультурного диалога между странами; какое место в условиях трансформации современной системы международных отношений будет играть это движение; какие направления и форматы сотрудничества будут актуальны в ближайшие десятилетия – эти вопросы ставились с июня 1944 г., но не утратили своей актуальности.
Третье направление исследований касается анализа источников информации о ходе и значении Сталинградской битвы, которые были в распоряжении военно-политического руководства страны, включающие, в том числе, радиоперехваты немецкой шифровальной машины «Энигма». Крайне интересным представляется исследование влияния полученной разведывательной информации на корректировку планов по ведению войны и изменение позиций в переговорном процессе при обсуждении вопросов послевоенного устройства мира. Имеются в виду сотни дел архивного фонда Главного Управления правительственной связи (Government Communications Headquarters (GCHQ)), Национальных архивов Великобритании, где сосредоточены сведения по сбору, анализу, оценке и оперативному использованию полученной из различных источников информации разведывательного характера.
Наибольшую ценность представляют еженедельные и ежемесячные отчеты (сводки) и сами тексты перехваченных радиосообщений немецких штабов, отправляемые посредством шифровальной машины «Энигма». Данная операция английской разведки по перехвату и, главное, дешифровке этих сообщений вошла в анналы ее истории. Теме «Энигмы» в английской историографии посвящено большое количество публикаций и воспоминаний работников спецслужб. Однако эти фундаментальные работы отражают события битв за Атлантику и Британию, операции на Средиземноморском и других театрах военных действий, анализируя лишь причины трагических для СССР событий начала Великой Отечественной войны (Aldrich, 2010: 31), упоминая события под Сталинградом лишь вскользь (Hinsley et al., 1979: 99–111; Keyth, 2010: 509, 554).
Только малая часть радиоперехватов имеет отношение к битве под Сталинградом. Каждое архивное дело представляет собой папку из нескольких страниц с перехваченными и расшифрованными сообщениями за день. По своему содержанию информация в них о ходе сражения за Сталинград неотделима от сведений о положении дел армий вермахта и подразделений люфтваффе на кавказском и других фронтах и датируется периодом между 8 августа и 25 ноября 1942 г. Более поздние документы пока обнаружить не удалось. Расшифрованные перехваты, исходя из чрезвычайных мер секретности, печатались на бланках под грифом «Совершенно секретно» с пометкой «Не выносить из офиса». Количество копий редко превышало десяток. Исходя из степени важности информации, они распределялись между Министерством иностранных дел, Адмиралтейством, Оперативным разведывательным центром, высшим руководством Королевскими ВВС, Военным департаментом и др. Документы подавались напрямую премьер-министру Великобритании У. Черчиллю или его заместителю К. Эттли1.
Военно-политическое руководство Великобритании анализу сведений о боях в районе Сталинграда уделяло особое внимание. Это прослеживается по наличию краткой аннотации, сопровождающей единичные, наиболее важные радиограммы. К таковым можно отнести сообщения, расшифрованные 9 августа: «Немцы в 20 милях от Сталинграда», «Немцы вышли к Волге» и «Контратаки русских отбиты с большими потерями» (27 августа), «Немцы оккупировали бόльшую часть Сталинграда» (20 сентября). Не обошли вниманием английские аналитики и «Переход немцев к обороне» (13 октября), а также первые успехи советских войск в результате начала контрнаступления (22 и 25 ноября)2.
Анализ радиоинформации показывает, что обстановка в районе Сталинграда английскому командованию была известна в самых общих чертах и с запозданием в несколько дней, но даже такой минимум сведений позволял иметь достаточно точное представление о скорости наступления немецких войск, их трудностях, дислокации войск с частями союзников, успехах люфтваффе и проблемах с нехваткой топлива и бомб, захвате крупных и мелких населенных пунктов, героическом сопротивлении советских дивизий, попавших в окружение в августе на правом берегу Дона, неповрежденных мостах и переправах, оставленных в спешке отступающими советскими частями и т. п.
Вместе с тем складывается впечатление, что эти сообщения, отправляемые в Берлин, носили иногда характер победных реляций. Их прочтение адресатом не оставит у него сомнений в том, что, несмотря на усиливающееся сопротивление советских войск, успех вермахта и его союзников в захвате Сталинграда и прорыве к кавказской нефти гарантирован. Особенно это ощущается после известных событий 23 августа 1942 г. в районе Сталинграда, когда в Берлин было отправлено сообщение о выходе 16-й танковой дивизии в 4-х км к северу от Сталинграда к Волге и неудачных атаках советских войск в районе п. Рынок – х. Дубовка с целью окружения прорвавшейся группировки противника. О массированной бомбардировке Сталинграда в этот день не упоминается, хотя иногда часть радиосообщений терялась, например, из-за неблагоприятных метеоусловий или радиопомех1.
С другой стороны, анализ сведений, содержащихся в радиосообщениях немецких штабов, с учетом их довольно односторонней направленности, говорит об их относительной точности при сравнении с опубликованными архивными документами фронтовых и армейских штабов советских воинских частей из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ.
Среди радиосообщений исключительно военного характера интерес могут представлять и единичные перехваченные дипломатические письма. Например, интересны радиограммы в Токио советника посольства Японии в Мадриде. Они содержат информацию о слухах в Испании и Португалии по поводу возможности заключения между СССР и Германией сепаратного мирного договора, данные японской разведки об отсутствии в Великобритании приготовлений к открытию второго фронта, а также о разговоре 3 августа с послами Германии и Италии, старавшихся убедить советника в необходимости немедленного нападения на СССР со стороны Маньчжурии2. Таким образом, менее надежные, по сравнению с военными, дипломатические шифры позволяли руководству Оперативного разведывательного центра Великобритании быть в курсе значительной части дипломатической переписки противника и его союзников.
Вне всякого сомнения, только всесторонний анализ радиоперехватов и других материалов британской разведки в сочетании с советскими штабными документами позволит точнее определить то место, которое занимал этот источник развединформации в корректировке военных планов военно-политическим руководством Великобритании, и то влияние, которое он оказал на формирование оценки значения оборонительных боев под Сталинградом для английского командования.
Важным итогом проведения научно-поисковой деятельности в Национальных архивах Великобритании представляется понимание необходимости продолжения этих исследований, поскольку очевиден тот факт, что в годы войны стремление народов узнать историю, культуру и вклад в общую победу друг друга позволил наладить культурные и научные контакты. Они дополнялись надеждами и на послевоенное продолжение всех форм сотрудничества.
Годы холодной войны отодвинули не только научный интерес в изучении представлений друг о друге во время войны, они способствовали сужению круга исторических источников, рассказывающих о том значении, которое приписывала британская общественность ключевым событиям Второй мировой войны. Тот смысл, который в Великобритании придавал «человек с улицы» исходу и важности Сталинградской битвы, привел к беспрецедентным кампаниям сбора адресной гуманитарной помощи, многообразию форм проявления солидарности, сочувствия, стремления расширить военную помощь. Особенности восприятия Сталинграда, как ключевого момента войны в британском общественном мнении, сделали его оборону заметным, ярким фактом общественно-политической жизни страны, что наводит на мысль о более глубоком, чем принято в отечественной и зарубежной историографии, понимании международного значения этого сражения в странах антигитлеровской коалиции.
Список литературы Национальные архивы Великобритании о значении Сталинградской битвы: обзор источников и перспективы исследований
- Атопов В.И. По законам братства. Волгоград, 1987. 256 с.
- Белл Ф.М.Х. Великобритания и Сталинградская битва // Сталинград. Событие. Воздействие. Символ : сб. ст. / под ред. Ю. Фёрстера. М., 1994. С. 373-395.
- Дэнкс К. Ваша борьба - наша борьба: англо-советский союз во второй мировой войне // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 2015. № 15. С. 118-138. (на англ. яз.).
- Монько А.М. Побратимы. Волгоград, 1972. 192 с.
- Aldrich R.J. GSHQ. L., 2010. 1043 p.
- Bell P.M.H. John Bull and the Bear. British Public Opinion, Foreign Policy and the Soviet Union 1941-1945. L., 1990. 214 p.
- British Intelligence in the Second World War: its Influence on Strategy and Operations / F.H. Hinsley [et al.]. London, 1979. 601 p.
- Keith J. MI6: The History of the Secret Intelligence Service, 1909-1949. London, 2010. 810 p.