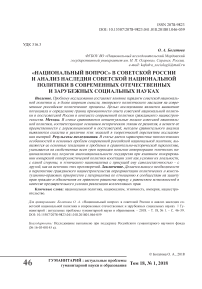"Национальный вопрос" в советской России и анализ наследия советской национальной политики в современных отечественных и зарубежных социальных науках
Автор: Богатова Ольга Анатольевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение. Проблему исследования составляет влияние парадигм советской национальной политики и, в более широком смысле, имперского политического наследия на современные российские политические процессы. Целью исследования являются выявление потенциала и определение границ применимости опыта советской национальной политики в постсоветской России в контексте современной политики гражданского нациестроительства. Методы. в статье сравниваются концептуальные модели советской национальной политики, соответствующие основным историческим этапам ее развития, в аспекте ее преемственности с дореволюционной и постсоветской, методом сравнительного анализа выявляются сходства и различия этих моделей в теоретической перспективе исследования империй. Результаты исследования. В статье дается характеристика типологических особенностей и основных проблем современной российской национальной политики, выявляются ее основные тенденции и проблемы в сравнительно-исторической перспективе, указывается на свойственные всем трем периодам попытки инкорпорации этнических национализмов под лозунгом многонациональности государства при взаимном игнорировании имперской оппортунистической политики кооптации элит как условии их лояльности, с одной стороны, и этнического национализма с присущей ему самодостаточностью - с другой, как на источник этих противоречий. Заключение. Делается вывод о необходимости в перспективе гражданского нациестроительства переориентации политических и конституционно-правовых приоритетов с патернализма по отношению к сообществам на защиту прав граждан и обеспечения их правового равенства наряду с равенством возможностей в качестве предварительного условия реализации коллективных прав.
Короткий адрес: https://sciup.org/14721006
IDR: 14721006 | УДК: 316.3 | DOI: 10.15507/2078-9823.041.018.201801.046-059
Текст научной статьи "Национальный вопрос" в советской России и анализ наследия советской национальной политики в современных отечественных и зарубежных социальных науках
Предметом исследования в данной статье является влияние парадигм советской национальной политики и, в более широком смысле, имперского политического наследия на современные российские политические процессы, целью – выявление границ применимости опыта советской национальной политики в постсоветской России в контексте реализации новой объединяющей формулы решения политической государственно-гражданской с амоиден-тификации – российской полиэтнической гражданской нации.
В настоящее время в экспертном сообществе широко распространены субъективные и упрощенные интерпретации содержания лозунга гражданской нации как аналога «советского народа» [5, с. 80] или
16-03-00145 а).
даже эпифеномена русского этнического национализма, а также базирующиеся на них попытки оппонировать этому лозунгу с позиций представительства интересов отдельных этнических общностей России, основанных на новейшей версии примор-диализма - концепции «стратегического эссенциализма» [21, с. 81]. Это видно на примере дискуссии о разработке федерального закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями» в 2016 г., один из участников которой, Н. А. Митрохин, охарактеризовал конструктивистскую теорию нации как «устаревшую уже лет на тридцать», обвинил ее в том, что она «ориентирована на сдерживание групповых проявлений этничности» и противопоставил ей примордиалистскую точку зрения, которой, по его утверждению, придерживаются те,
«кто считает, что сохранение «этноса» само по себе важно и полезно» [14], а также из рекомендаций экспертов по российской федеральной политике, доказывающих необходимость ее дальнейшей этнизации с целью поддержания дистанции между федеральным центром и регионами.
Так, И. М. Бусыгина выделяет республики в составе Российской Федерации в качестве «этнических регионов» и настаивает на последовательной реализации в России «модели этнической федерации», основанной на «признании особых прав этнических меньшинств и их большей автономии, что неизбежно приводит к ограничению или даже ущемлению интересов большинства» [3, с. 174], избегая упоминаний о последствиях данной модели федерализма для территориальной целостности ранее существовавших в Европе этнических федераций, включая СССР. Автор концепции «этносословий» Р. Р. Вахитов, выступая, по его собственному выражению, «с точки зрения интересов нерусских народов России», видит в концепции российской нации «смягченный вариант» русского национализма, предлагая предоставить этносам право самоопределиться в форме привилегированных территориальных «этносословий» либо «нации (точнее, этнонации) – этносоциальной общности, представляющей собой гражданское общество, то есть существующей на правах самоуправления, не получающей никакой помощи от государства и, более того… стремящейся образовать государство или уже образовавшей его» [4, с. 49].
Подобные концептуальные заявления свидетельствуют о том, что компромиссная концепция «нации наций», интегрирующей этнические нации в составе гражданской, которая («ни в коей мере не означает отрицание или растворение российских национальностей (наций в этническом смысле слова) в некой монокультурной общности под названием российская нация»), выдви- нутая В. А. Тишковым [23, с. 73], способна удовлетворить далеко не всех сторонников стратегического эссенциализма, в сущности самодостаточного и не нуждающегося в «надстройке» в виде гражданской нации.
Анализируя советский опыт нациестро-ительства, исследователи обычно подчеркивают его специфику, заключающуюся в попытках «национализации империи» в целом и построения моноэтнического национального государства [10, с. 100], инверсию ролей «державной» этнической общности и этнических меньшинств, правовую институционализацию этнич-ности в государственном масштабе наряду с конструированием этнических наций на «субгосударственном» (республиканском) уровне, территориализацию этничности и национальной политики, способствовавшей созданию этнических преференций в республиках [29, p. 52], политико-правовое самоопределение Советского Союза как многонационального государства и наднациональный характер интегративного понятия «советский народ» [9, с. 630]. При этом обычно констатируются недостатки советской национальной политики, заключающиеся в поощрении этнического партикуляризма, наличии противоречия между персональным и территориальным аспектами огосударствления этничности и, как следствие, правовой незащищенности представителей различных этнических групп за пределами соответствующих республик [29, p. 52], а также нелегитимности интегративной политики по отношению к республикам с позиций идеологии «дружбы народов».
Попытка определения степени практической применимости советского опыта для решения современных этнополитических проблем предполагает решение таких задач, как проблематизация самого понятия советской национальной политики, описание современных концептуальных схем ее анализа в отечественных и зарубежных со- циальных науках, а также применение этих схем к анализу уже постсоветской национальной политики.
Материалы и методы
Решение поставленных задач основывается на применении сравнительного метода и качественного социологического анализа документальных источников.
Результаты исследования
Первым опытом современного осмысления преемственности советской и постсоветской национальной политики можно считать статью американского социолога Р. Брубейкера «Национальность и национальный вопрос в Советском Союзе и постсоветской Евразии» [29]. Предложенная им характеристика идеального типа советской национальной политики как сочетания личной и территориальной институционализации этничности на субгосударственном уровне с самоопределением государства в целом как многонационального, в противоположность стандартной самоидентификации современных национальных государств, в настоящее время доминирует среди отечественных и зарубежных социологов и политологов.
Исходя из методологии структуралистского конструктивизма, Р. Брубейкер впервые начал объяснять дезинтеграцию СССР не подавлением национального самосознания советских народов, а, наоборот, чрезмерным огосударствлением социальной категории этничности, артикулируемой в национальных терминах и превращенной в социальный институт, основную матрицу социального «видения и разделения мира» и единственную легитимную форму выражения групповых политических интересов в контексте позднесоветского «общенародного государства» [29, p. 48]. Фактически советский режим, как отмечает исследователь в более поздней работе, способствовал превращению этничности в основу постсоветских политических национализмов тем, что «сделал беспрецедентно серьезные шаги к ее институционализации и кодификации. …Тем самым режим не просто признавал или ратифицировал уже существующее положение дел; он вновь создавал и лица, и места как национальные» [2, с. 109–110].
Аналогичную точку зрения высказал американский исследователь отечественного происхождения Ю. Л. Слезкин в статье под названием «СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этическую обособленность» [20]. Современный российский историк А. И. Миллер, анализируя неудачи как дореволюционной, так и советской национальной политики, оценивает советский опыт еще более негативно, утверждая, что «на самом деле советская национальная политика совершенно не умела защищать меньшинства и знала только один способ решения проблем этнических меньшинств – превращение их в большинство или титульную национальность в специально созданных для этого административных образованиях. На практике часто получалось, что другие группы населения, проживающие на территории автономий, в том числе русские, оказывались ущемлены в своих правах. Советская традиция отразилась и в языке современной российской Конституции» [13, с. 136].
Следующий важный шаг в осмыслении советской национальной политики был сделан историком Т. Мартином, с одной стороны, охарактеризовавшим советскую национальную политику как имперскую в аспекте ее преемственности и различий с дореволюционной, и выявившего, с другой стороны, различные типы этой политики, имеющие существенные различия в подходах к решению «национального вопроса» и складывавшиеся по мере ее исторического развития.
Т. Мартин, изучая становление советской национальной политики в 20–30-е гг. XX в., характеризует ее как «выс- шую форму империализма» и различает ленинскую модель «империи положительной деятельности» 20-х – первой половины 30-х гг. XX в., в которой было институционализировано «иерархическое различие между державными и колониальными народами, но в перевернутом виде, как новое различие между ранее угнетенными национальностями и былой великодержавной нацией» [10, с. 105], и сформировавшуюся в конце 30-х гг. политику «дружбы народов», отличавшуюся от предыдущего этапа в основном признанием объединяющей роли русской культуры, языка и русских как экстерриториальной этнической общности, представителям которой в любой части СССР не мог предписываться статус «национального меньшинства», настойчивым внедрением двуязычия и установкой на модернизацию культур народов СССР по образцу русской культуры как «наиболее прогрессивной» [9, с. 629–630]. В то же время он относит «принцип главной опасности», источником которой большевики считали «великорусский шовинизм», к числу основополагающих принципов советской национальной политики наряду с принципом «коренизации» местных элит, классовым подходом к национализму, признанием связи между национализмом и модернизацией, к числу основных принципов советской национальной политики [9, с. 19].
С точки зрения Т. Мартина, «руссоцен-тризм» сталинской политики «дружбы народов» был относительным, так как она рассматривалась в качестве альтернативы национализму, объединявшему традиционные моноэтнические государства, исходила из развития различных этнонациональ-ных идентичностей и не препятствовала «коренизации», которая продолжала осуществляться в формах, не раздражавших русских [9, с. 622]. Исследователь подчеркивает в целом оппортунистический и парадоксальный характер советской национальной политики, которая имела целью нейтрализацию этнического национализма как идеологического конкурента, но в итоге его увековечила через усвоение примордиа-листского языка описания и интерпретации этничности [9, с. 623].
Хронологически более развернутую периодизацию советской национальной политики предлагает А. Н. Щербак, выделяющий шесть этапов в развитии советской национальной политики, включая Гражданскую войну, с различной выраженностью тенденций к «коренизации» и «ассимиляции» и в целом преувеличивая значение в ней целенаправленной ассимиляционной тенденции. В основном, он исходит в своих обобщениях из экспертных оценок представителей символьных элит республик, обеспокоенных отсутствием возможности реализовывать собственные культурно-образовательные функции в том объеме, в котором они считали нужным [25, с. 117], хотя этносоциоло-гические данные показывают, что установки интеллигенции далеко не всегда совпадали с установками большинства представителей «титульных» этнических групп в республиках: например, в массовом опросе Н. Ф. Мокшина в Мордовской АССР в 1973 г. около 90 % респондентов мордовской национальности предпочитали обучать детей либо в «русской школе» (46,5 % в селе и 83,8 % в городе), либо «в русской с преподаванием мордовских языков и литературы как предметов» (соответственно 40,6 и 11,2 %) [15, с. 203], что, по мнению исследователя, демонстрировало установку на освоение русского языка как ресурса для «интеллектуального развития, роста мордовского самосознания» [15, с. 204–205].
Такое изменение языковых предпочтений «титульного» населения республик в 60–80-е гг., на наш взгляд, следует рассматривать как следствие целенаправленной политики, проводимой «сверху», а скорее, в качестве вынужденно отложенной до получения сельскими жителями возможности полноценной территориальной мобильно- сти реализации «права на ассимиляцию», которое Т. Мартин считал наследием сталинской политики «дружбы народов» [9, с. 560].
Третьим важным направлением в исследованиях наследия советской национальной политики является выяснение ее сходства и различий с традиционной имперской политикой. Следует отметить, что в современных исследованиях наций констатация диалектической связи нации и империи как формы политической организации преобладает над их жестким и односторонним противопоставлением [13, с. 109]. А. И. Миллер считает установленными фактами формирование «больших» европейских наций в имперском ядре и их притязания на имперскую миссию [13, с. 32], наряду с Ю. П. Шабаевым утверждая, что аналогичная попытка конструирования нации на основе русского культурного ядра, но не обязательно этнически гомогенной, была предпринята в Российской империи в конце XIX – начале XX в. [13, с. 88; 24, с. 12]. В этом историческом контексте советская политика «дружбы народов» может рассматриваться как частичное продолжение тенденций эволюции национальной политики императорской России второй половины XIX – начала XX вв., в которой, как отмечает А. И. Миллер, «нация и национализм являются источником угрозы и одновременно необходимым ресурсом» [13, с. 73], хотя и отвергшее ее русскую этнона-ционалистическую составляющую
Реже обращается внимание на преемственность советской национальной политики с дореволюционной имперской, выражающуюся в разделении власти имперским центром с местными этническими элитами, создании им привилегий за счет этнического большинства и использовании этнических категорий в качестве статусных маркеров. Например, австрийский историк А. Каппелер, характеризуя Российскую империю как «многонациональную»
и анализируя особенности статуса в ней «инородческих» меньшинств, отмечает, что «русское население… в регионах востока и юга было представлено как господствующей дворянской элитой, так и крепостными крестьянами, имевшими даже меньше прав и находившимися в худшем положении, чем нерусские крестьяне. Это еще раз подтверждает то обстоятельство, что этнические и конфессиональные критерии не могут быть решающими для социальной структуры России» [6, с. 93].
Современный российский политолог В. С. Малахов рассматривает Российскую империю как частный случай реализации общего правила, согласно которому «имперские политии не только обнаруживают определенное равнодушие к культурным различиям между сегментами в управляемом ими населении, но зачастую и поощряют такие различия. …Имперское господство как господство, основанное на поддержании баланса различий, накладывается на особенности управления в сословно-династических государствах как таковых. Культурные различия между сословиями — залог устойчивости подобных государств» [8, с. 73–74]. Аналогичную точку зрения высказывает культуролог А. М. Эткинд, отмечающий, что «в России… одной из важнейших практик в ее истории стало взаимное обращение социальных и культурных различий, определение этносов по аналогии с сословиями и придание сословиям черт субэтносов» [26, с. 25].
Недооцененным в теоретическом и практическом аспекте, на наш взгляд, является то обстоятельство, что традиционные империи не имеют дела в качестве партнеров с национально мыслящими элитами: такие элиты нового типа формируются в Европе только в XIX в. в процессе модернизации, а также этнизации исходной гражданской версии американского «креольского» – по выражению Б. Андерсона – национализма в процессе ее «пиратского» заимствования [1, с. 89]. А. И. Миллер констатирует, что Российская и Габсбургская империи, будучи в этот период уже не вполне традиционными, не чуждались поддержки национальных меньшинств в целях противодействия другим имперским национализмам как более серьезной угрозе, и, в частности, «готовы были на текущий момент оказать поддержку формированию особой национальной идентичности некоторых групп, которые были мишенью альтернативных проектов ассимиляции и культурной экспансии, ради того, чтобы заблокировать усилия более мощных конкурентов» [12, с. 66–67]. Тот факт, что в результате этой поддержки Российская империя сталкивалась с последствиями, аналогичными советским (например, в Финляндии), не только снижает уникальность советского опыта, но и демонстрирует, на наш взгляд, ограниченность возможностей такого великодержавного оппортунизма при попытках решить проблему национализма как явления новой формации c помощью традиционной имперской политики кооптации элит.
С нашей точки зрения, деятельность Р. Брубейкера в области изучения «политики идентичности» в форме советской и постсоветской национальной политики является дополнительным основанием для того, чтобы прислушаться к его мнению в постсоветской России. Несмотря на существенные различия в национальной политике России и других бывших союзных республик, можно, на наш взгляд, говорить о применении в них весьма специфической версии «советского опыта», основанного не на модели политики «дружбы народов» конца 30-х гг. XX в., а на «ленинской национальной политике» в той форме, в которой она была повторно изобретена в СССР в период «перестройки».
Основные принципы этой политики, сформулированные в документах пленума ЦК КПСС 20 декабря 1989 г., заключались в поддержке «национального многообразия» и роста национального самосознания народов СССР, прекращении «унитаризации», размывающей суверенитет республик [11, с. 215], и, как следствие, дублировании союзных органов управления в РСФСР, включая создание двухпалатного парламента для представительства народов России, и «расширении прав и возможностей всех видов национальных автономий» [11, с. 218]. Независимо от последствий этих решений для существования СССР, они положили начало процессу переноса его политических атрибутов, включая стереотип восприятия в качестве «этнической федерации» и соответствующие социальные ожидания, на российскую государственность уже в постсоветский период. Именно поэтому в настоящее время прочитать об этническом федерализме в России можно в трудах представителей нового поколения, несмотря на то, что она не является конституционной этнотерриториальной федерацией.
Анализ преемственности между советской и постсоветской национальной политикой Р. Брубейкером позволяет отследить процесс зарождения в большинстве из них «национализирующей» политики республиканской идентичности, сохраняющей преемственность с советским наследием в формах и методах, включая «коренизацию» политической элиты, этнизации институтов культуры и образования и сохранения практики переписного учета и группировки населения по принципу этнической принадлежности при помощи методов, способствующих статистическому увеличению численности «государствообразующей» этнической общности. Р. Брубейкер особо отмечает наличие такого поля национализирующей государственной политики, как «этнополитическая демография», включающая совокупность политических дискурсов и практик, сфокусированных на учете численности «государствообразующей» и остальных этнических групп [28, p. 1794].
Россия выглядит на этом фоне исключением, консервирующим идеологические принципы и противоречия советской национальной политики на уровне конституционного права и политического дискурса. С нашей точки зрения, выражается это прежде всего в видении сообществ, а не граждан в качестве объектов этнополитики, патернализме по отношению к сообществам, а также в натурализации советской матрицы групповой дифференциации, созданной в свое время с совершенно другими идеологическими целями, забвение которых в последние десятилетия СССР привело к ре-ификации и последующему коллапсу всей национально-государственной конструкции.
В отличие от советской Конституции РСФСР, современная Конституция РФ, принятая на волне перестроечного и постсоветского движения за «национальное возрождение» формулирует права в более группистских и этницистских терминах, декларируя не только право гражданина «на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (ст. 26, п. 2), но и право всех народов России «на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» (ст. 68, п. 3) и одновременно исключительное право республик (в отличие от других субъектов РФ) на установление «своих государственных языков» (ст. 68, п. 2) [7].
Несмотря на то, что современная Россия не является по конституции этнической федерацией, можно констатировать наличие в ее государственном устройстве таких элементов советского наследия, как признание категории «национальность» в «этноплеменном», по терминологии А. И. Миллера [13, с. 136], смысле в качестве не только академической или статистической, но и правовой категории, декларацию многонационального характера государствообразующего российского на- рода и передачу основных полномочий и политических решений в области национальной политики на «субгосударственный» уровень. Ряд исследователей констатирует наличие тенденций к национализирующей этнизации республиканской идентичности в отдельных республиках (как «концентрация на одной этнической группе при маргинализации остальных», по характеристике А. И. Миллера [12, с. 21], несмотря на декларированное в Конституции РФ равноправие всех субъектов федерации и ограничение конституционных особенностей республик номинацией в качестве «государств», их основных законов – в качестве конституций, и наличием права на учреждение и преподавание в государственных школах региональных языков.
Несмотря на отсутствие конституционно-правовых оснований для претензий на первенство титульных этнических групп в республиках, по мнению Э. Д. Понарина, «ситуация, сложившаяся в 1990-х гг. в большинстве российских республик, является прекрасным примером институционально закрепленного группового доминирования. Дело в том, что вследствие своего асимметричного характера, о котором говорилось в разделе об институциональном дизайне, унаследованная от СССР российская федеративная система, защищая права титульных этнических групп на федеральном уровне, обеспечивает сравнительно слабую защиту нетитульного населения, проживающего в национальных республиках» [18, с. 161–162].
Э. Джулиано, анализируя феномен массового недовольства положением титульных национальностей в республиках России в 90-е гг. XX в., утверждает, что требования «националистических предпринимателей», интерпретирующих социальные проблемы в терминах этнического или конфессионального неравенства, получают массовую поддержку в том случае, если они могут убедить обычных людей в том, что эти требования связаны с их личными интересами и опытом повседневного общения, фреймы интерпретации которого также могут зависеть от идеологического контекста их социализации. Например, проблемы адаптации рабочих из числа уроженцев села в промышленных городах могли усугубляться советскими идеологическими представлениями о большей престижности труда рабочего перед крестьянским, а происхождение из моноэтнического села или сельского района при отсутствии опыта общения с сельскими русскими – способствовать формированию представления о русских как представителях городского этноса, мигрировавших в республику относительно недавно [30, p. 17–18].
К советскому наследию можно отнести также «эссенциалистский (субстанциалист-ский) подход к этническим проблемам», основанный, по характеристике В. С. Малахова и А. Г. Осипова, «на вере в объективно-культурное содержание понятий «этническая группа», «национальность и т. д.» и ведущего к «мифологизации социальных отношений» [16, с. 68] вследствие того, что «общество предстает как сумма «наций», «этносов», «национальных общин», которые, в свою очередь, мыслятся как коллективные личности со своей внутренней структурой, интересами, способностью предпринимать осознанные действия и т. п. В результате политическое, социальное и культурное пространство страны начинает восприниматься как разделенное по этническим линиям, а многим общественным явлениям произвольно приписывается этнический смысл» [16, с. 70]. В результате в условиях легализации других оснований консолидации групповых интересов – классовых, профессиональных, религиозных и т. д. – этничность по-прежнему рассматривается политиками в качестве привилегированной категории групповой идентичности, что и способствует в итоге кумулятивной «национализации» республик, несмотря на формальное равенство их конституционноправового статуса с остальными субъектами РФ и фактическую полиэтничность их населения.
На практике группистскому подходу к этническим проблемам соответствует корпоратистская модель участия во власти, которую отмечает, например, историк И. И. Верняев, определяя этнокорпорации как «сети профессиональных этнофоров, которые представляют этнические группы и используют ресурсы» [27, с. 63], и приводя в качестве примеров этнокорпораций казачьи объединения, национально-культурные автономии и т. п. Восприятию республик в целом в качестве этнокорпораций, предназначенных для реализации прав народов, составляющих их титульное население, способствуют и охарактеризованные ранее особенности российского конституционного права, включающего, как отмечает С. В. Соколовский, элементы эссенциа-листского восприятия этничности [22], и осуществляемая в них политика.
Если в позднесоветский период, по наблюдению А. Н. Щербака, в РСФСР имела место тенденция к «коренизации» политического руководства республик на фоне тенденции к «медленной, но неуклонной ассимиляции» в культурно-языковой сфере [25, с. 118], то в постсоветский период приоритетной сферой национализации становится именно культурно-языковая политика, социальный контекст которой составляют фактически сложившееся распределение предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации в сочетании с влиянием общемировой тенденции к культу-рализации этничности в этнополитике [17, с. 132] и необоснованным противопоставлением экспертным сообществом «политического» и «культурного» национализма, хотя вопросы языковой политики в образовании напрямую связаны с проблемой статуса и полномочий республик.
Современная федеральная этнополитика по отношению к этническим группам, не представленным какой-либо «этнокорпорацией», в том числе к русским в национально-государственных образованиях, составляющих примерно половину территории страны, в наибольшей степени напоминает описанную Т. Мартином модель «перевернутой империи» первых десятилетий Советского государства, когда «партия попросила русских принять формально неравный национальный статус, чтобы продолжить сплочение многонационального государства… идентифицируя себя с ненациональной империей положительной деятельности» [10, с. 107]. Эта асимметрия политической идентификации прослеживается, например, в программной статье В. В. Путина по «национальному вопросу», опубликованной им в качестве кандидата в Президенты РФ, где русский народ определяется в качестве «государствообразующего – по факту существования России» [19, с. 78], осуждаются «идеи построения русского «национального», моноэтнического государства» на том основании, что «самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» [19, с. 77], но одновременно говорится о республиках в ее составе как о «национальных», что может рассматриваться в качестве предлога для их дальнейшей этнизации.
Обсуждение
На уровне политической практики приверженность политике «перевернутой империи», сохраняемая федеральным руководством, несмотря на существенное сокращение общей территории страны и изменение ее этнического состава по сравнению с СССР, для которого эта модель и была предназначена, соответствует экспертному восприятию Российского государства как аналога советской этнофедерации, а не как относительно русифицированного в рамках политики «дружбы народов» имперского ядра, что, в свою очередь позволяет руководству республик в составе РФ расширять свои полномочия и повышать символический статус республик по аналогии с союзными республиками бывшего СССР. Практически повсеместная ностальгия элит по «советскому опыту» национальной политики объясняется именно ее упрощенной интерпретации как единого целого, игнорирующей существенные различия таких этапов ее становления, выделенных Т. Мартином, как политика «положительной деятельности» и сменившая ее политика «дружбы народов», можно объяснить именно этой причиной. Компромиссной формуле «нации наций» в результате эссенциалистско-го дрейфа в интерпретации понятия гражданской нации в российском политическом дискурсе в итоге отводится декоративная функция.
Заключение
Таким образом, в «имперской» перспективе анализ как собственно развития советской национальной политики, так и постсоветского опыта применения наследия этой политики указывает на такой аспект имперской преемственности, как попытка инкорпорации этнических национализмов под лозунгом многонациональности. Ограниченность возможностей такой политики демонстрирует ее фундаментальное, на наш взгляд, противоречие, заключающееся в несовместимости и, как следствие, взаимном игнорировании логики традиционного имперского государства, рассматривавшего этнокультурные и социальные различия как взаимно обратимые, а привилегии местных элит – как вознаграждение, обусловленное лояльностью, с одной стороны, и этнического национализма с присущей ему самодостаточностью, безусловностью притязаний и, с другой стороны, отмеченной Э. Д. Понариным склонностью к «этническому шантажу», который имеет собственную динамику и может выйти из-под контроля его инициаторов, использующих сепара- тистскую риторику ради расширения своих полномочий [18, с. 157]. Кумулятивный процесс этнической национализации как советских республик, так и их постсоветских преемников, можно объяснить, исходя из этого противоречия, в силу которого та степень этнизации государственных институтов, которая была желанной целью предыдущего поколения этнических элит, может рассматриваться последующим поколением как само собой разумеющаяся либо недостаточная в сравнении с национа- листическим идеалом совпадения культурных и политических единиц и даже ущемляющая их права. Напротив, реализация уже не имперского, а гражданского проекта нации предполагает переориентацию политических и конституционно-правовых приоритетов с патернализма по отношению к сообществам на защиту прав граждан и обеспечения их правового равенства наряду с равенством возможностей в качестве предварительного условия реализации коллективных прав.
Список литературы "Национальный вопрос" в советской России и анализ наследия советской национальной политики в современных отечественных и зарубежных социальных науках
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. -М.: КАНОН-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. -288 с.
- Брубейкер Р. Этничность без групп. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. -408 с.
- Бусыгина И., Филиппов М. Политическая модернизация государства в России: необходимость, направления, издержки, риски. -М.: Фонд Либеральная миссия, 2012. -224 с.
- Вахитов Р. Р. Федерализм, нации и этносословия в России//Федерализм в современной России: диалектика взаимоотношений между государством и субъектами: материалы респ. науч.-практ. конф./отв. ред. С. А. Севастьянов. -Уфа: БАГСУ, 2015. -С. 42-49.
- Зверева Г. Как «нас» теперь называть? Формулы коллективной самоидентификации в современной России//Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. -2009. -№ 1 (99). -С. 72-85.
- Каппелер А. Россия -многонациональная империя. -М.: Традиция -«Прогресс -Традиция», 2000. -344 с.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Документ предоставлен КонсультантПлюс. -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обращения: 31.08.2017).
- Малахов В. С. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. -М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН, 2014. -232 с.
- Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939; . -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. -855 с.
- Мартин Т. Империя положительной деятельности: Советский Союз как высшая форма империализма//Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина/под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина; . -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. -С. 88-116.
- Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 19-20 сентября 1989 г. -М.: Политиздат, 1989. -255 с.
- Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. -М.: Новое литературное обозрение, 2006. -248 с.
- Миллер А. И. Нация, или Могущество мифа. -СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. -146 с.
- Митрохин Н. Как не остаться с этносом //Грани.ру. -2016. -3 нояб. URL: http://mirror715.graniru.info/opinion/mitrokhin/m.256218.html.
- Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX -XX века). -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1977. -280 с.
- Осипов А. Г. Этничность и равенство в России: особенности восприятия. -М.: Центр «Сова», 2012. -200 с.
- Осипов А. Г., Малахов В. С. Категория «этническое меньшинство» в российском публичном и законодательном дискурсах//Мир России. -2008. -№ 3. -С. 67-91.
- Понарин Э. Д., Жирков К. А. Национализм этнический и политический: институциональные факторы татарского национализма в республиках Волжско-Уральского региона//Мир России. -2013. -№ 3. -С. 152-177.
- Путин В. В. Россия: национальный вопрос//Вестник российской нации. Спецвыпуск. -2008-2016 (№ 54). -С. 73-85.
- Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этическую обособленность//Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: антология/сост. М. Девид-Фокс. -Самара: СГУ, 2001. -С. 329-374.
- Соколовский С. В. Современный этногенез или политика идентичности? Об идеологии натурализации в современных социальных науках//Этнографическое обозрение. -2012. -№ 2. -С. 77-83.
- Соколовский С. В. Эссенциализм в российском конституционном праве (на примере терминологии, используемой в конституциях республик в составе РФ)//Русский национализм: Социальный и культурный контекст/сост. М. Ларюэль. -М.: Новое литературное обозрение, 2008. -С. 184-232.
- Тишков В. А. Этнический фактор и новейшая история государственной этнополитики в России//Вестник Российской нации. Спецвыпуск (№ 54). -2008-2016. -С. 57-73.
- Уральская языковая семья: народы, регионы и страны: этнополит. справ./под ред. А. П. Садохина, Ю. П. Шабаева. -М.: Директ-Медиа, 2014. 969 с.
- Щербак А. Н., Болячевец Л. С., Платонова Е. С. История советской национальной политики: колебания маятника?//Политическая наука. -2016. -№ 1. -С. 100-123.
- Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением//Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России: сб. ст./под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. -М.: Новое литературное обозрение, 2012. -С. 6-50.
- Этническое и национальное в современной политике: круглый стол. 27.02.2014//Журнал проекта «Historia Nationem Gignit». -2014. -№ 3. -С. 54-82.
- Brubaker R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet states//Ethnic and Racial Studies. -2011. -Vol. 34. -P. 1785-1814.
- Brubaker R. Nationhood and National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: an Intuitionalist Account//Theory and Society. -1994. -№ 1. -P. 47-58.
- Giuliano E. Constructing Grievance: Ethnic Nationalism in Russia’s Republics. -Ithaca (NY): Cornell University Press, 2011. -234 p.