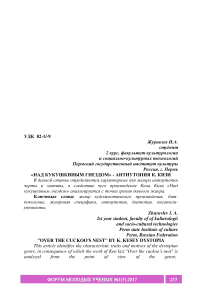"Над кукушкиным гнездом" - антиутопия К. Кизи
Бесплатный доступ
В данной статье определяются характерные для жанра антиутопии черты и мотивы, в следствие чего произведение Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» анализируется с точки зрения данного жанра.
Жанровая специфика, жанр художественного произведения, бит-поколение, дистопия, антиутопия, писатели-утописты
Короткий адрес: https://sciup.org/140276849
IDR: 140276849
Текст научной статьи "Над кукушкиным гнездом" - антиутопия К. Кизи
Для литературоведения проблема определения жанра художественного произведения всегда являлась не только одной из самых сложных, но и, в силу некоторых причин, одной из самых важных, т. к. зачастую именно жанр художественного текста является ключом к наиболее полному его пониманию. Помимо традиционного определения жанровой специфики, а именно выявления «поверхностных» характерных черт, существует также несколько совокупностей устойчивых признаков, позволяющих отойти от данного метода.
В первом случае, подобные признаки формируются целенаправленно самим автором (т. н. «авторский жанр») с целью выполнения определенных художественных задач. В качестве примеров можно привести лирическое произведение А. С. Пушкина «Евгений Онегин», названного романом в стихах, ввиду присущих эпическому жанру композиции, хронотопа и системы персонажей, а также прозаические «Мертвые души» Н. В. Гоголя, которые сам автор определил, как поэма.
Во втором случае, совокупности признаков формируются уже читателем, и никак не относятся к первоначальному авторскому замыслу. Так, роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», являющегося философским и социально-психологическим романом, можно назвать детективом, в силу присутствующего ряда признаков, характерного для данного жанра (наличие убийцы, следователя (здесь: пристава), расследования преступления).
И именно второй метод интересует нас главным образом, т. к. Кен Кизи никогда не позиционировал свой роман «One Flew Over the Cuckoo's Nest» (в русском переводе - «Над кукушкиным гнездом») как антиутопию. Что же касается традиционного подхода, то данное произведение опять же не вписывается в рамки этого специфичного жанра, однако, это только на первый взгляд.
Первым делом стоит отметить тот факт, что творчество К. Кизи очень далеко от антиутопии. Писатель принадлежит к тому поколению авторов, которое принято называть «разбитым» поколением или бит-поколением (англ. The Beat Generation ). Для творчества романистов-битников были характерны критика американских нравов, нонконформизм, главные герои их произведений зачастую отвергнуты обществом, а их поиски лучшей жизни не увенчаются успехом.
«Над кукушкиным гнездом» является одним из самых ярких примеров «разбитой» литературы. Главные герои данного произведения - не принятые обществом люди, коротающие свои дни в лечебнице для душевнобольных, с характерным для битников мировоззрением.
«Ничего не могу поделать. Я родился по ошибке. Снес столько обид, что умер. Я родился мертвым. Ничего не могу поделать. Я устал. Опустил

руки. У вас есть надежда. Я снес столько обид, что родился мертвым. Вам легко досталось. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал» [2, c. 67]. В данном отрывке Кен Кизи говорит с читателем устами одного из пациентов больницы, Чесвика, и заявляет о том, что он был рожден не в то время, слишком уж рано.
«Он сказал, психопат означает то, что я дерусь и… - извиняюсь, дамы, - означает, он сказал, что я чрезмерно усердствую в половом отношении. Доктор, это что, очень серьезно?» [2, c. 58]. Здесь же автор, хоть и в немного грубой форме, задает вопрос: почему, если я делаю то, что в обществе не принято считать нормальным, меня считают сумасшедшим?
Мотивы свободы и отрицания существующих порядков проходят здесь красной нитью и выражены чуть ли не в каждой реплике главных героев романа, что и делает его характерным представителем литературы «разбитого» поколения. Но мы имеем дело с произведением многослойным, что позволяет нам анализировать его вне рамок жанровой специфики и рассматривать данный роман как антиутопию (дистопию).
Согласно А. В. Петрихину, «…Антиутопия – демонстрация практической реализации утопических проектов, указывающая не только на их многочисленные недостатки и недоработки, но и на коренным образом противоречащие человеческой свободе фундаментальные установки подобных конструкций» [4, c. 139].
За всю свою историю жанр антиутопии сформировал свои характерные особенности или, как пишет А. К. Жолковский, «комплекс типичных тем», среди которых: тотальный контроль общества, «обязательное единомыслие его членов», квест, в результате которого герой обретает «гармоничный синтез всех традиционно противоположных полюсов», внешний конфликт между «рядовым героем» и властителем, дополняющийся «внутренней противоречивостью каждого из них» [1, c. 172.]. Также следует отметить черты, выделенные Б. А. Ланиным: «образ псевдокарнавала, история рукописи как сюжетная рамка, мотивы страха и преступной, кровавой власти» [3].
Если помнить о том, что дистопия является полной противоположностью утопии, то сразу можно тот факт, что К. Кизи, как и писатели-антиутописты, строит модель мира, которую он всячески порицает и критикует, в то время как утопию характеризует вера автора в безупречность модели. Кизи описывает на первый взгляд идеальное общество, работающее как единый механизм, параллельно показывая последствия пребывания в нем. В антиутопии моделирование сценария будущего соединяется с критическим осмыслением настоящего [5], и эта характеристика как нельзя лучше подходит для данного произведения, автор которого, будучи представителем битничества, ставил перед собой задачу именно осмыслить происходящее вокруг него в данный момент.

Пациенты действительно верят в благие намерения сестры Рэтчед (в переводе В. Голышева – Гнусен) и в непоколебимость выстроенной ей «идеальной» системы: «Вы совершенно не учитываете, совершенно игнорируете и не учитываете тот факт, что все это они делали для моего блага! Что всякая дискуссия, всякий вопрос, поднятый персоналом и в частности мисс Гнусен, преследует чисто лечебные цели. Вы, должно быть, не слышали ни слова из речи доктора Спайви о теории терапевтической общины, а если и слышали, то в силу непросвещенности не способны понять. Я разочарован в вас, друг мой, да, весьма разочарован» [2, c. 72].
Они также отвергают вероятность борьбы с власть имущими: «Мир принадлежит сильным, мой друг! <…> Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики приняли свою роль в ритуале и признали в волке сильнейшего. Кролик защищается тем, что он хитер, труслив и увертлив, он роет норы и прячется, когда рядом волк. <…> Он знает свое место. Никогда не вступит с волком в бой. Какой в этом смысл? Какой смысл?» [2, c. 80].
И только после появления в больнице Р. П. Макмерфи, являющего собой обязательный для антиутопии образ персонажа, подвергающего текущий строй сомнению, их точка зрения начинает претерпевать кардинальные изменения.
Сестра Рэтчед, в свою очередь, представляет из себя властную женщину, олицетворяющую царящую в рамках лечебницы систему (Комбинат, как называет её рассказчик Вождь Бромден, сравнивающий сестру с важным чиновником: «…главная сила – не сама старшая сестра, а весь Комбинат, по всей стране раскинувшийся Комбинат, и старшая сестра у них – всего лишь важный чиновник» [2, c. 224]). Подобный образ также не является новым для жанра антиутопии: у Джорджа Оруэлла в данной роли выступает Большой Брат, у Евгения Замятина – Благодетель, у Олдоса Хаксли – Мустафа Монд.
Именно Макмерфи и сестра Рэтчет являются сторонами главного в книге конфликта между главным героем и действующим властителем. Макмерфи, индивидуалист и бунтарь, начинает рушить устроенный сестрой порядок, тем самым подрывая веру пациентов в ее всемогущество. Однако, как подмечает Вождь, в борьбе со злом можно выиграть лишь несколько раундов, после чего вновь грядет поражение.
Мотив неразрушимости вселенского зла также присущ жанру антиутопии. Макмерфи не удается «одолеть» сестру Рэтчед: в результате последнего инцидента его отправляют «наверх» - на лоботомию, после которой он перестает быть личностью и начинает представлять из себя обычный живой организм. Подобный сюжетный ход с подверганием героя к некой загадочной процедуре, опять же, очень близок к произведениям Замятина и Оруэлла. В романе «Мы» главных героев подвергают Великой

Операции и лишают их фантазии, в «1984» Уинстон Смит оказывается «излечен» путем многочисленных психических и физических пыток.
Последним из признаков можно отметить мотив рукописи, в романе Кизи представленной в виде воспоминаний рассказчика – Вождя Бродмена. Именно от его лица ведется все повествование, что объясняется желанием автора отразить действительность с максимальной долей достоверности (ведь по сюжету именно Вождь пребывает в лечебнице дольше остальных пациентов), что было бы невозможно, будь повествователем Макмерфи, знакомый с ужасами режима лишь недолгое время. Также выбор рассказчика обуславливается намерением показать в первую очередь не трагичную судьбу свободного человека, а постепенно растущее желание обрести свободу у отвергнутого обществом.
В итоге, выявив характерные для жанра антиутопии художественные черты и мотивы, мы смогли расширить жанровую специфику романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», доказав, что данное произведение в той или иной мере может называться антиутопией, несмотря на отсутствие соответствия данного жанра авторскому замыслу.
Список литературы "Над кукушкиным гнездом" - антиутопия К. Кизи
- Жолковский А. К. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о снах нового типа [Книга]. - М.: Наука: Издат. фирма "Восточная литература", 1994. - стр. 428.
- Кизи Кен Над кукушкиным гнездом [Книга] / перев. Голышев В. П. - Москва: Издательство "Э", 2016. - стр. 384.
- Ланин Б. А. http://netrover.narod.ru/ lit3wave/1_5.htm [В Интернете] = Антиутопия в литературе русского зарубежья.
- Петрихин А. В. Антиутопия как способ осознания единства цели и различия путей ее достижения гуманизмом и утопией [Журнал] // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2009 г. - №6: Т. 5. - стр. 138-141.
- Филатов В. И. Антиутопия ХХ века как метод предвидения будущего [Журнал] // Вестник Омского университета. - 2014 г. - стр. 84-86.