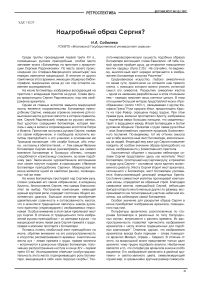Надгробный образ Сергия?
Автор: Соболева Н.А.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Ретроспектива
Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140208888
IDR: 140208888 | УДК: 18.07
Текст статьи Надгробный образ Сергия?
ГОУВПО «Московский Государственный университет сервиса»
Среди группы произведений первой трети ХV в., посвященных русским преподобным, особое место занимает икона «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием Радонежским» 1 . По месту своего происхождения (из Стефано-Махрищского монастыря) 2 она нередко именуется махрищской. В отличие от других памятников этого времени, имеющих обширную библиографию, махрищская икона до сих пор остается наименее исследованной.
На иконе Богоматерь изображена восседающей на престоле с младенцем Христом на руках. Слева фигура предстоящего Сергия Радонежского, над ним изображение архангела.
Одним из главных аспектов замысла махрищской иконы является покровительство Богоматери преподобному Сергию, имевшее огромное значение для осмысления места русской святости в истории православия. Сергий Радонежский, первым из русских святых, был удостоен созерцания Богоматери, которая явилась к нему в келию в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Пречистая коснулась руками Сергия, назвав его своим избранником, и пообещала исполнить молитвы преподобного о его учениках и основанном им Троицком монастыре: «Не скорби больше, ибо отны-не...не покину я обители твоей...» 3 . Тем самым Явление Богоматери Сергию можно рассматривать как символ вселения Богоматери в Троицкую обитель, которая уподобляется «пристанищу спасения», во всем подобному раю. 4 Законченное художественное воплощение этот сюжет получит позднее, в композициях «Явление Богоматери преподобному Сергию». Махрищская же икона является одной из наиболее ранних, посвященных той же теме.
На иконе Богоматерь простирает над Сергием руку, словно указывая его своим избранником, а младенец Христос, благословляя Сергия, тем самым благословляет ее выбор. Построение композиции, имеющей единый круговой ритм, передает состояние общего молитвенного диалога. Большое значение приобретает удивительная созвучность и согласованность жестов, что в иконописи традиционно являлось знаком духовного единства («единомудрия») изображаемых персонажей. Особое внимание в этой связи привлекает жест рук Сергия. В отличие от традиционного типа изображений русских преподобных – со свитками в руках – на махрищской иконе левая рука Сергия прижата к груди, правая в молении простерта к Богоматери.
Пытаясь понять необычный жест преподобного на иконе, обратим внимание на его распространенность в искусстве рассматриваемого времени. Аналогичные жесты рук – левая прижата к груди, правая моленна – встречаются в деисусных образах Богоматери, получивших распространение на Руси в конце XIV – первой трети ХV вв.5 Исследователи отмечают особую выразительность этого жеста, подчеркивающего роль Богоматери, вмещающей в себя «всю людскую скорбь»6. Тео- лого-мировоззренческую сущность подобных образов Богоматери воплощают слова Евангелия: «И тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лука 2:35)7. Не случайно, по-видимо-му, аналогичный жест нередко встречается в изображениях Богоматери в иконах Распятие.8
Средневековое искусство, глубоко символичное по своей сути, практически не оставило нам прямого ключа, с помощью которого можно уяснить истинный смысл его символов. Раскрытию символики жестов – одной из наименее разработанных в этом отношении тем – нередко помогает лишь контекст целого. В этом отношении большой интерес представляет икона «Преображение» (около 1403 г.), связываемая с кругом Феофана Грека. 9 Руки пророка Ильи, предстоящего Христу на горе Фавор, скрещены перед грудью. При этом правая рука, моленно простертая к Христу, изображена с поднятым вверх большим пальцем, что свидетельствует о ведущемся между Ильей Боговидцем и Богом духовном общении. Прижатая к груди левая рука Ильи – знак благоговейного принятия пророком Божественного послания. По-видимому, тот же оттенок смысла нес в себе аналогичный жест Богоматери, молительни-цы за людей. Вторящий ему жест рук Сергия позволяет говорить об особом значении образа преподобного на иконе, изображенного у Божественного престола.
Удостоенный общения с высшими небесными силами Сергий представлен здесь как молитель 1 . 0 Жест Богоматери, простершей над Сергием руку, и прижатая к груди рука Сергия – составные части единого молитвенного диалога. Жесту Сергия вторит жест архангела, склоненного к Богоматери, жест Богоматери усиливается благословляющей десницей младенца Христа. Состояние совместной молитвы пронизывает композицию иконы, определяет ее образный строй. Благодаря символике жестов, преподобный Сергий, небольшая фигура которого много меньше других по размеру, воспринимается как полноправный участник небесной молитвы, как собеседник самой Богоматери.
Особое значение для раскрытия образа Сергия в иконе приобретает изображение архангела, помещенного над ним.
Полуфигуры архангелов, расположенные по сторонам Богоматери в различных по типу богородичных иконах, встречаются с раннего времени. Их распространенность позволяет причислить изображения архангелов к числу вполне традиционных для подобных композиций.11 Отметим, однако, что изображения архангелов всегда были парными – слева помещался архангел Михаил, справа – Гавриил. В отличие от этого, на махрищской иконе представлен только один архангел, чему трудно подобрать аналоги. Необычным является и то, что полуфигура архангела в иконе особо выделена. Его изображение заключено в двойной круг темно- и светло-зеленого цвета, символизирующий горний мир; а чрезвычайно крупный размер сомасшта- бен изображению самой Богоматери.
Некоторые исследователи пытались связать изображение архангела с именем Гавриила, приписывая его появление на иконе намеку на посвящение Киржа-чского монастыря Благовещению, мысль об основании которого возникла у преподобного Сергия, когда он находился в махрищской обители. 12 В связи с этим труднопостигаемым с точки зрения логики предположением отметим одну существенную деталь. В композиции Благовещения архангел Гавриил никогда не изображался с моленным жестом. Посланный с Благой вестью Гавриил благословляет Марию, избранную Божественным промыслом, но не молится ей. На мах-рищской же иконе склоненная голова архангела и моленный жест его рук дословно повторяют деисусные композиции. Между тем в деисусе одесную (справа) Христа традиционно помещался образ архангела Михаила, облаченного, как правило, в плащ красноватых тонов, как и на махрищской иконе. Не находя серьезных оснований считать, что здесь нарушено традиционное для византийского и древнерусского искусства расположение архангелов, попробуем найти иное истолкование этого образа.
Вероятнее всего, на иконе представлен архангел Михаил, глава ангельских сил, ставший олицетворением ангельского служения миру. Не случайно, ангельская помощь людям традиционно выражалась в древнерусской живописи через деяния архангела Михаила 13 («И такового и божественного архистратига Михаила ...постави оттоле нам избранным христианам великого предстателя и спаса» 14 ). «Божий воевода», предводитель небесного воинства архангел Михаил имел на Руси необычайно широкое и многогранное почитание.
Михаил почитался как хранитель христианской Руси в борьбе с «погаными» (язычниками) 1 . 5 Он сокрушает «распаляема дьяволом» Мамая, его бесчисленное войско, «научением диаволим» приведенное на Русь. «Небесный воевода», исполнитель Божественной воли Михаил, во времена Сергия воспринимался не только как покровитель князей в военном деле, но как символ защиты всего русского народа от вражеских нашествий. В видении, описанном в летописной повести «О побоищи на Дону», эта защита представлена вполне конкретно: полк святых мучеников и ангелов помогает русским воинам в битве с татарами, во главе его – «воевода свершеннаго полка небесных вой архистратиг Михаил» 1 . 6 Этот аспект восприятия, актуальный для своего времени, несомненно, присутствует в иконе. Впоследствии именно так, ретроспективно-философски, будет осмыслен подвиг Дмитрия Донского в повестях, посвященных Куликовской битве. При этом будет вспоминаться благословение, данное князю Сергием Радонежским, прославленным молителем за русскую землю.
Одним из важных аспектов почитания архангела Михаила было и его покровительство монашеству. По церковному преданию, именно архангел Михаил передал преподобному Пахомию Великому монашеский устав, легший в основу монашеского общежития (киновии). Подобно тому, как Пахомий Великий считается основателем киновии, созданной «по уставу ангельскому», Сергий Радонежский, обратившийся к древней общежительной традиции, почитается как возобно-витель монашеского общежития в Северо-Восточной (Московской) Руси. В этом, вероятно, заключена еще одна из причин помещения на иконе образа архангела Михаила рядом с Сергием. Несомненно, однако, что образ архангела Михаила имеет еще более широкое значение.
Изображение архангела перекликается с известным чудом, описанным в Житии Сергия, о том как на литургии, совершаемой преподобным, ангел сослужил Сергию. Житие преподобного рассказывает: ученики Сергия Исаакий Молчальник и отец Макарий увидели мужа «ангелоподобного и чудесного» с лицом, сияющим, как солнце, так что нельзя было смотреть, который выходил из алтаря вслед за служащим Сергием. По окончании литургии ученики приступили к преподобному с вопросами. Сергий же сказал: «Тот, кого вы видели, – ангел Господень; и не только сегодня, но и всегда по воле Божьей служу с ним я, недостойный» 1 . 7
Эта тема получила глубокое осмысление в русской церковной практике. Церковная гимнография традиционно уподобляет преподобных земным ангелам. Благодаря этому, чин преподобных в церковной традиции именуется ангельским. Тема ангельского служения преподобных, раскрывающая значение этого чина, отразилась в текстах служб преподобным, 18 что имело большое значение для общественного восприятия их образов. Эта тема должна была, конечно, найти отражение и в произведениях изобразительного искусства. Махрищская икона, на наш взгляд, является одним из них, поскольку тема ангельского служения преподобных составляет в ней один из главных смысловых аспектов восприятия. Ангелы – бесплотные посланники Божии, «светы вторичные», находящиеся вблизи Творца. Их молитвы много сильнее и действенней людских, поскольку исходят от совершеннейших и ближайших к Богу. Архангел же Михаил, имя которого означает «кто как Бог», обычно именуется «первоангелом» и «предстателем Божественному престолу». Не случайно на махрищской иконе фигура Сергия сопоставлена с изображением Михаила. Они оба, ангел небесный и ангел земной, предстоящие Божественному престолу сверху и снизу («с небес и земли»), обращены к восседающим на престоле Богоматери и Христу, которые принимают их общее моление. 19 Состояние глубокой задумчивости, погруженности в себя, переданное в лике Богоматери, находит прямой отзвук в трактовке образа архангела, с которым она ведет безмолвный молитвенный диалог. Рука же Богоматери простерта к Сергию, словно уравнивая двух ангелов – небесного, архангела Михаила, и земного, преподобного Сергия.
Тема уподобления монашеского служения ангельскому нашла отражение в целом ряде произведений древнерусской живописи. Одно из наиболее ярких ее воплощений представлено в созданной в последней четверти ХV в. иконе «Богоматерь Одигитрия с Троицей и избранными святыми на полях», происходящей из Троице-Сергиевого монастыря.
По сторонам Богоматери на иконе помещены образы предстоящих преподобных – Евфимия Великого, основателя Лавры под Иерусалимом, и Сергия Радонежского, основателя Лавры под Москвой.20 Преподобные представлены в рост, в трехчетвертных поворотах, в моленных позах. При этом Сергий, как и на махрищс-кой иконе, изображен без свитка в руках. Эта редкая особенность его изображения, возможно, может служить прямым указанием на знакомство автора иконы с предшествующей ей махрищской, один из аспектов замысла которой – уподобление монашеского подвига ангельскому – она повторяет.
Изображения преподобных Евфимия Великого и Сергия Радонежского сопоставлены с образами архангелов Михаила и Гавриила, помещенных вверху. Существенным для понимания значения образов архангелов на иконе является изображение лоров, покрывающих их руки. Это свидетельство того, что архангелы представлены в момент совершения службы. Тема служения архангелов раскрывается и через образ Ветхозаветной Троицы, размещенной между ними. Изображение на иконе Троицы, несомненно, имеет более широкий смысл, чем просто указание на посвящение Троице-Сергиева монастыря, как это предполагалось некоторыми авторами. 21 Ветхозаветная трапеза трех ангелов Троицы символизирует кульминационный момент службы (евхаристию).
Внизу иконы изображены русские преподобные – Евфимий Суздальский, Варлаам Хутынский, Дмитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский и Павел Обнорский. 22 Их правые руки в благословляющих жестах, в левых руках свернутые свитки. Образы преподобных, исполненные торжественности и величественности, перекликаются с изображениями архангелов, как бы вторят им. Идея общности служения небесных и земных ангелов получает в иконе композиционную завершенность.
Перекличка тех же тем – служение миру ангелов и уподобленное ангельскому служение преподобных – впервые находит художественное воплощение в мах-рищской иконе. При этом образ архангела Михаила, помещенный между Богоматерью и Сергием, вносит традиционную упорядоченность в иерархию предстоящих. Благодаря этому, икона в смысловом и композиционном отношении может уподобляться деисусной композиции, что имеет особое значение для уяснения ее идейного замысла.
Изображение деисуса в восточной части храма (алтарной апсиде) обычно указывало, по мнению исследователей, на погребальный характер храма.23 Могла ли и махрищская икона нести тот же оттенок смысла, являясь своего рода надгробным образом? Для ответа на этот вопрос обратимся к примерам использования подобной композиционной схемы в надгробных изображениях. Начиная со второй половины ХIV в. таких примеров достаточно много. Среди них упомянем фреску из Охридской церкви Богоматери Перивлепты (1379), в которой у трона Богоматери изображен «сродник краля Марка» Остойя Раякович.24 При сравнении охридской фрески и махрищской иконы отмечается не только общность их композиционного построения, но и близость жестов изображенных персонажей. Правая рука Богоматери на фреске, так же как и в иконе, простерта к предстоящему, на него же обращено благословение младенца. Руки предстоящего Остойи в том же моленном жесте, при этом жест его правой руки, обращенный к Богоматери, усилен жестом левой, согнутой в локте, с развернутой в молении кистью. Этот жест, как и жест Сергия на махрищской иконе, близок жесту, используемому в деисусных иконах Богоматери (в данном случае к типу Богоматери Агиосоритиссы). Однако в отличие от махрищской иконы о погребальном характере охридской фрески свидетельствует не только построение композиции, но и пространная надпись, проходящая по верху изображения и начинающаяся словами «преставися раб Божий Остоя...». В надпись включены также слова молитвы Остойи: « вас же молю братия моя любимая прочитающе простите а вас Бог яко вы можете быти како я а я како вы николиже».
Вариант развития того же типа надгробной композиции представляет хиландарская фреска (1431), помещенная в кафоликоне у гроба Рейошева. 25 Поясное изображение Богоматери с младенцем на руках, благословляющих предстоящего молителя, оказывается в центре деисусной композиции, расположенной в разных уровнях. Над изображением Богоматери помещен образ благословляющего Спаса Еммануила, по сторонам – фигуры архангелов, ниже – изображения святителя и преподобного.
В махрищской иконе присутствует тот же аспект восприятия, который усилен изображением архангела Михаила. Отметим, что почитание Михаила на Руси нередко соотносилось с заупокойным культом. Устойчивость связи образа архангела с представлениями о сопровождении и защите им человеческих душ после смерти 26 отразилась в посвящении русских храмов-усыпальниц и многих кладбищенских церквей архангелу Михаилу. 27 Тот же мотив звучит в памятниках древнерусской письменности: «И поднял меня Михаил, великий архангел Господень, и привел меня перед лицо Гос-пода» 2 , 8 «и повелел мне следовать за собой в обитель Неизреченного света, для поклонения Божественному престолу». 29
Большое значение для решения вопроса о том, могла ли махрищская икона быть надгробной и, таким образом, оказаться непосредственно связанной с почитанием памяти Сергия, имеет вопрос о месте и времени ее создания. Достоверных сведений об этом, к сожалению, нет. Однако целый ряд косвенных данных позволяет высказать некоторые предположения.
Большинство исследователей склоняется к датировке иконы первой третью ХV в. Многоплановый, необычайно глубокий замысел этого произведения свидетельствует о том, что местом его создания должен был быть какой-то крупный художественный центр. Относительно существования такого центра в этот период в Махрищском монастыре или работе там каких-либо известных художников сведений нет. Вполне возможно, что так называемая «махрищская» икона попала в Махрищский монастырь значительно позднее времени своего создания. Это предположение невольно приводит нас к Троице-Сергиеву монастырю, где в это время работали выдающиеся художники, «стоявшие на необычайно высоком духовном и художественном уровне» 3 . 0 Сюжет махрищской иконы, связанный с темой боговидения (богопознания), особо значимой в кругу Сергеевых учеников, ставит ее в ряд актуальных для своего времени произведений, отразивших глубину духовных исканий сергиевской эпохи.
Искренняя вера и глубокие богословские идеи соединились в иконе в отточенную художественную формулу.
Покровительство Богоматери Троице-Сергиеву монастырю, неразрывно связанное в представлении людей того времени с образом его основателя, приобретало после кончины Сергия важнейшее значение для троицких иноков. Не случайно уже в первой половине ХУ в. в монастыре создается композиция «Явление Богоматери Сергию Радонежскому»3,1 где та же тема получает законченное композиционное воплощение. Очевидно, что тот же смысловой оттенок имело и изоб- ражение Сергия у трона Богоматери на махрищской иконе.
Иноки Троице-Сергиева монастыря, среди которых выдающиеся духовные наставники, писатели, иконописцы, должны были, конечно, стремиться облечь свое благоговейное почитание образа учителя в художественно-символическую форму. Традиция изображений монахов-наставников, восходящая к началу монашеского движения, получила теоретическое осмысление еще в эпоху иконоборчества: «И любовь, и целование, и поклонение ... через посредство иконы переходит к первообразу, т.е. осуществляется акт общения, хотя и не непосредственного, с изображенным персона-жем». 32 В этом контексте создание подобного изображения Сергия Радонежского в Троице-Сергиевом монастыре вскоре после кончины преподобного можно расценивать как исполнение сергиевой заповеди любви, что, по-видимому, приобретает особое значение при осмыслении образа первого троицкого игумена в кругу его учеников. Не случайно, видимо, появление образа Сергия Радонежского на махрищской иконе оказывается созвучным словам св. Григория Паламы: «святых иконы твори...и поклоняйся им, не как богам, – что воспрещено, но во свидетельство твоего с ними общения в любви к ним и чествования их, ум твой возводя к ним через иконы их» (Десятословие по христианскому законоположению). 33
Для понимания места такого выдающегося памятника, как икона «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием Радонежским» в истории древнерусской живописи, большое значение имеет уточнение его датировки.
Стиль махрищской иконы, с ее монументальной композицией и весомостью форм, тяготеет к традициям XIV в. 34 Для конца XIV в. характерны светотеневая живописная лепка ликов, трактовка образа младенца, изысканный рисунок лика Богоматери, второстепенные детали.
Столь же близкой традициям XIV в. по композиции «палеологовского типа» и по стилю 35 оказывается икона «Троица с Авраамом и Саррой», происходящая из Троице-Сергиевой Лавры. 36 Отметим, что между этими произведениями существует определенная стилистическая близость 3 . 7 Еще более существенным представляется созвучие их образного строя, соотносящегося с «особой атмосферой духовного подъема», возникающего во времена Сергия Радонежского. 38
Время создания иконы «Троица с праотцами» принято связывать со строительством монастырского Троицкого собора – деревянного 1411 г. (Г. Вздорнов, Э.Смирнова и др. 39 ) или каменного 1422–25 гг. (В. Плу- 40
тин ). При этом вопрос о времени и характере украшения древнейшего Троицкого храма (1357–1408), возведенного в монастыре еще при жизни Сергия, никогда не ставился. Между тем, кажется вполне вероятным, что после кончины Сергия декорация алтарной части древнейшего Троицкого храма могла быть обновлена. Деятельная сторона натуры преемника Сергия на игуменстве Никона Радонежского, нашедшая отражение в различных письменных источниках, дает веские основания для подобного предположения. Известно, например, что после нашествия Едигея (1408), разорившего Троицкую обитель, преподобный Никон, призвав братию «скорбная с радостью переносить»4,1 вновь отстраивает монастырь, в первую очередь деревянную церковь Троицы. Однако уже через одиннадцать лет новый, только что построенный Троицкий собор (1411), по велению Никона разбирается, а на его месте начинается постройка одноименного каменного храма. Принимая во внимание хотя бы только эти сведения, характеризующие рачительную заботу Никона о вверенном ему Троицком монастыре, вполне возможно предположить, что в конце XIV в., вскоре после кончины своего учителя, Никон решил почтить память Сергия, повелев обновить украшение древнего Троицкого собора. С этой целью были заказаны две парные иконы «Ветхозаветная Троица с праотцами» и «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием»4.2 Сюжеты обеих икон, связанные с темой «боговидения», обрели особое значение в кругу троицких иноков после кончины Сергия, в период, когда «Троице-Сергиев монастырь становится ... главным очагом распространения иси-хазма»4.3 Почитание Троицы, которой Сергий, первым из русских иноков, посвятил монастырь, звучит в его Житии наряду с темой особого покровительства Богоматери, явления которой Сергий, первым из русских иноков, удостоился.
Таким образом, представляется вполне вероятным предположение, что иконы «Троица с праотцами» и «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием» могли быть созданы в конце ХIV в., после кончины Сергия (1392), для первого деревянного Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, построенного еще при жизни Сергия. Именно у южной стены этой церкви Сергий и был погребен, после чего она, по всей видимости, должна была получить новый характер в общественном восприятии, став своеобразным мемориалом, своего рода храмом-усыпальницей, 44 что не могло не отразиться на ее внутреннем убранстве. Тем самым, махрищская икона, созданная в память о Сергии, могла являться его наиболее ранним «надгробным» образом, при создании которого был использован привычный тип ктиторской композиции.
Подобное восприятие образа основателя монастыря как молителя за его братию, прямого предстателя перед Богом запечатлено в памятниках древнерусской письменности первой трети ХV в. Так, в Похвальном слове Кириллу Белозерскому, составленном в Кирилло-Белозерском монастыре, говорится: «Что убо, братие, сеа радости сладчайши нашим душам, еже сподобихомся видети отца нашего и пастыря отсю-ду отшедше и приимша венецъ нетленный от живо-начальныа десница Христа Царя и близ престола Владычня стояща и дерзновение к Нему имуща о нас молитися» 4 . 5 Данный текст удивительным образом перекликается со смысловым содержанием махрищской иконы, отразившемся в ее композиции. В связи с этим отметим известность этого образа в Кирилло-Белозерском монастыре и других дочерних Троице-Сергиеву монастырю обителях, подтверждаемую происходящими оттуда списками иконы. 46 Возможно, столь широкую популярность в кругу сергиевых учеников махрищская икона приобрела именно в связи с тем, что находилась у гроба преподобного.
Во время нашествия Едигея Никон с братией, «по Божественному предварению, благовременно удалился и имел возможность сохранить от свирепых хищников некоторые святыни, деревянные сосуды, книги и келейные вещи»4.7 Вероятно, среди них могла находиться и махрищская икона, как чтимая «веществен- ная» память о Сергии, которая позднее была поставлена в новую, построенную Никоном Троицкую церковь (1411).
Ряд исследователей высказывает предположение о том, что Троицкая церковь (1411) при строительстве каменного собора не была уничтожена, а разобрана и перенесена на восток от своего первоначального месторасположения, туда, где сейчас находится Духовская церковь 4 . 8 При этом в нее был внесен и «открыто» поставлен гроб с обретенными в 1422 г. мощами Сергия, к которым все три года строительства нового собора стекались паломники. 49 После возведения каменного храма, мощи преподобного Сергия были переложены в новую раку и торжественно перенесены в новый собор, где поставлены открыто на солее у диаконника. В деревянной же Троицкой церкви, по всей видимости, был оставлен для поклонения первый гроб преподоб-ного 5 . 0 Несомненно, что у гробов Сергия, находящихся в старом и новом соборах, должны были стоять какие-то его иконы.
Летописные свидетельства, связанные с укрытием в монастыре великого князя Василия Темного (1446 г.), говорят о том, что государь, выйдя навстречу своим преследователям, взял «с гроба преподобного» икону «Явление Богоматери Сергию» 5 . 1 Эта икона, судя по письменным источникам, находилась в каменном соборе. В деревянном же храме, у гроба Сергия, могла помещаться близкая по замыслу, но более ранняя по времени создания икона «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием» (так называемая махрищс-кая).
Около 1476–1477 гг. деревянная церковь Троицы (1411) за ветхостью была разобрана. Вполне вероятно, что именно в это время махрищская икона «покинула» Троицкий монастырь и была передана в близлежащий Махрищский монастырь, являющийся дочерней обителью Троице-Сергиева. Нельзя исключить и более поздние сроки ее появления в Махрищском монастыре, например, время правления Ивана IV Грозного, который мог вывезти икону, как одну из древних святынь, связанных с почитанием Сергия, к себе в Александровскую слободу, находившуюся близ Стефано-Махрищс-кой обители.
Остановимся вкратце на наиболее вероятной из этих версий – появлении иконы «Богоматерь на престоле» в Стефано-Махрищском монастыре в конце ХV в. (после 1477 г.). Известно, что в это время в Махри-щском монастыре, после опустошительного пожара, начались большие строительные работы. Восстановление монастыря связывают с деятельностью Троице-
Сергиевского игумена Арсения (Сахарусова), с именем которого соединено строительство главного Троицкого собора Стефано-Махрищского монастыря и его ико-ностаса 5 . 2 Вполне вероятно, что чтимая в Троице-Се-ргиевом монастыре икона «Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием», поновленная в это время по указанию игумена Арсения, была помещена в иконостас Махрищского собора. 53 Это предположение косвенно подтверждается близостью размеров иконы «Богоматерь на троне с предстоящим Сергием» (160 x 111) с храмовой иконой Стефано-Махрищского монастыря «Троица» 54 (159 x 116).
Предположение о времени создания махрищской иконы в конце ХIV в. позволяет считать ее одним из самых ранних дошедших до нас памятников, запечатлевших образ преподобного Сергия Радонежского. Это дает основание говорить о том, что почитание преподобного Сергия возникло сразу после его кончины, что подтверждается особенностями изображения Сергия на иконе как молителя, предстателя за людей перед Богом. Заметим, что впоследствии, при появлении образа Сергия в деисусном ряду иконостасов, его изображения наиболее часто будут помещаться, как и в махрищской иконе, одесную Богоматери.
В заключение подчеркнем, что так называемая мах-рищская икона (или ее прототип 55 ) была создана, по-ви-димому, одновременно с иконой «Троица с праотцами» в память преподобного Сергия. Черты палеологовского искусства, отличающие эти произведения, позволяют отнести махрищскую икону к концу ХIV – началу ХV вв., не позднее 1411 г. Местом ее создания, вероятнее всего, следует считать Троице-Сергиев монастырь, где в это время работали выдающиеся художники, соединенные духовными узами с Сергием и его ближайшими учениками. Сюжет махрищской иконы, как и иконы «Троица с праотцами», неразрывно связанный с темой боговидения (как богопознания), актуальный в кругу Сергиевых учеников, ставит ее в ряд выдающихся произведений древнерусского искусства, выразивших глубину духовной культуры этого времени. Искреннее верование и глубокие богословские идеи соединяются в иконе в отточенную, ясно читаемую формулу, наполненную живым смыслом и содержанием. Общая композиция иконы отличается необыкновенной глубиной и многогранностью. Особая выразительность образа Сергия подчеркнута построением композиции, в которой последовательно выявлено единство всех представленных персонажей, общий молитвенный диалог, объединяющий Сергия и высшие небесные силы.
Список литературы Надгробный образ Сергия?
- Смирнова Э.С. Московская икона ХIV-ХVII веков. -Л., 1988. -С. 271.
- Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия... -С. 87.
- Лифшиц Л.И. Иконография Явления Богоматери преподобному Сергию Радонежскому и мотивы теофании в искусстве конца ХIV -начала ХV вв.//Древнерусское искусство... -1998. -С. 86-87.
- Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи... -№ 244, 250, 255.
- Гусарова Е.Б. Поясные деисусные чины по материалам писцовых книг ХVI века//Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. -Т. IV. Произведения русского и зарубежного искусства ХVI -начала ХVIII веков. -М., 1984.
- Смирнова Е.Н. Деисусный чин из Никольского Единоверческого монастыря//Золотой рожок. Сборник статей о русской культуре и искусстве. -Вып. 2. -М., 1999. -С. 107-110.
- Плугин В.А. Андрей Рублев и духовная жизнь Руси конца ХIV -первой трети ХV в.: Дис. … д-ра ист. наук. -М., 1994. -С. 142.
- Лазарев В.Н. История византийской живописи... Табл. № 147, 157, 333, 432 и др.
- Кондаков ИЛ. Иконография Богоматери... -Т. 2. -С. 336, 347, 348, 377 и др.;
- Тихомирова К.Г. Героическое сказание в древнерусской живописи//Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV -ХVI вв. -М., 1970. -С. 28.
- Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия... -С. 81.
- Служба общая преподобным двум и многим//Великий сборник. 4.1. -Мукачево, 1992. -С. 406, 408.
- Житие преподобного Евфимия Великого//Избранные жития святых. III-IX вв. -М., 1992. -С. 261.
- Клосс Б.М. История создания жития преп. Сергия Радонежского//Троице-Сергиева Лавра в истории культуры и духовной жизни России. Международная конференция: Тезисы докладов. -Сергиев Посад, 1998. -С. 7.
- Babic G. Les chapelles annexes des byzantins. -Paris, 1969. -C. 163;
- Толстая Т.В. Сорок севастийских мучеников в программе алтарных росписей Успенского собора Московского Кремля//Древнерусское искусство... -1998. -С. 132.
- Троицкий Н.И. Народные сказания об архистратиге Михаиле. -Тула, 1899;
- Лихачев Д.С. Канон и молитва Михаилу Ивана Грозного//Рукописное наследие Древней Руси по материалам Пушкинского Дома. -Л., 1972. -С 14, 18. Центральное
- Из потаенных книг Еноха//Златоструй. -М., 1990. -С. 272.
- Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки//Сборник Общества русского языка и словесности Императорской Академии наук. -Т. 17. -М., 1877. -№ 1.
- Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. -Киев, 1991. -С. 175.
- Салтыков А.А. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. -Л., 1981. -№ 47, 48.
- Чармадова Г.А. Проблемы стиля в искусстве грозненского времени//Золотой рожок... -Вып. 2. -С. 70-75.
- Соснпна К.В. Преподобный Стефан Махрищский и Троице-Сергиева Лавра//Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Международная конференция. Тезисы докладов. -Сергиев Посад, 1998. -С. 45.
- Троицкий Патерик, или Сказание о святых угодниках Божиих. -Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1896. -С. 72.
- Лихачева О.П., Чуркина Л.А. Служба, Житие и Похвальное слово Кириллу Белозерскому//Древнерусское искусство. Художественные памятники Русского Севера. -М., 1989. -С. 355.
- Кавелъмахер В.В. Заметки о происхождении «Звенигородского чина»//Древнерусское искусство... -1998. -С. 208-209.
- Вздорное Г.И. Новооткрытая икона «Троицы» из Троице-Сергиевой Лавры и «Троица» Андрея Рублева//Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. -М., 1970. -С. 136.
- Плугин В.А. О происхождении «Троицы» Рублева//История СССР. -1987. -№ 2. -С. 64-79.
- Попова О.С. Русские иконы эпохи св. Сергия//Древнерусское искусство... -1998. -С. 32.
- Салтыков А.А. Иконография Троицы... -С. 82.