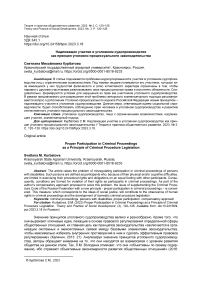Надлежащее участие в уголовном судопроизводстве как принцип уголовно-процессуального законодательства
Автор: Курбатова Светлана Михайловна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается проблема неурегулированности участия в уголовном судопроизводстве лиц с ограниченными возможностями. Под такими лицами понимаются его участники, которые из-за имеющихся у них трудностей физического и (или) когнитивного характера ограничены в том, чтобы наравне с другими участниками реализовывать свои процессуальные права и исполнять обязанности. Следовательно, формируются условия для нарушения их прав как участников уголовного судопроизводства. В рамках предлагаемого для разрешения этой проблемы авторского компенсаторного подхода рассматривается вопрос о дополнении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации новым принципом - надлежащего участия в уголовном судопроизводстве. Данная мера, отвечающая идеям социальной справедливости, будет способствовать соблюдению прав человека в уголовном судопроизводстве и развитию отечественного уголовно-процессуального законодательства.
Уголовное судопроизводство, лица с ограниченными возможностями, надлежащее участие, компенсаторный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/149142409
IDR: 149142409 | УДК: 343.1 | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.18
Текст научной статьи Надлежащее участие в уголовном судопроизводстве как принцип уголовно-процессуального законодательства
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия, ,
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia, ,
52); а С.Г. Хасанова устанавливает их связь с «теми экономическими и социальными реалиями, которые существуют в обществе и отражают степень демократизма самого общества» (2015: 191).
Процесс выделения идеи и ее оформления в виде положения, которое может находиться в основе отраслевого законодательства, также отражает объективный характер принципов, указывая на закономерности возникновения и развития предпосылок этого, важность для правового регулирования данной сферы общественных отношений. Применительно к уголовному судопроизводству речь идет о тех наиболее значимых для него базовых идей, которые обозначены в статьях гл. 2 УПК «Принципы уголовного судопроизводства». Эти идеи, по мнению А.В. Гриненко, универсальны, действуют в отношении всех его участников, даже если это на первый взгляд неочевидно по названию и содержанию некоторых из них, поэтому не должно существовать самостоятельных принципов для отдельных его стадий (2016).
Следует отметить, что свойство отражения на себе происходящих изменений в социуме, развития гуманистических, демократических идей в обществе обусловливает динамичность системы принципов уголовного судопроизводства, выражающееся в том, что она дополняется новыми основополагающими идеями, а также проявляющееся в корректировке уже имеющихся. Так, в 2010 г. в УПК РФ была введена статья 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства»1, в 2013 г. – статья 8.1 «Независимость судей»2. За время действия Уголовно-процессуального кодекса РФ содержание норм гл. 2 не раз подвергалось изменениям и дополнениям. Поэтому совершенствование принципов уголовного судопроизводства является закономерным и естественным процессом, учитывая то, что общество и государство находятся в постоянной эволюции. Одним из результатов такого эволюционирования выступает появление и распространение на уровне мирового сообщества нового подхода к восприятию человека и его возможностей для осуществления активной жизнедеятельности. Это коснулось понятий инвалидности и инвалидов и выразилось в переходе от медицинской модели их толкования к социальной. Если в первой за основу брались медицинские показатели и здоровье людей, то во второй, кроме этого, учитываются еще социальные, философские и иные аспекты.
В международном праве это получило максимальное выражение в нормах Конвенции ООН «О правах лиц с ограниченными возможностями»3. С конца ХХ в. принимается ряд международных правовых актов, в содержании которых уже присутствует результат осознания и принятия за основу того, что человек может не только испытывать проблемы со здоровьем, но и иметь трудности социально значимого характера, ограничивающие возможность его участия в жизнедеятельности общества и государства, в том числе касающейся правоотношений. При этом наименование «инвалид» к таким людям неприменимо, поскольку соотносится именно с критериями здоровья, т. е. с медицинской моделью (Рахимова, 2023). В связи с этим появляется и распространяется новая терминология – лицо с ограниченными возможностями (Муравьева, 2012).
В России это проявилось в том, что в законодательстве стал встречаться термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» (Козырева, 2016), при том что категория «инвалид» по-прежнему сохранила свое значение. Как справедливо отмечает Т.В. Софронова, «многие воспринимают словосочетание “человек с ограниченными возможностями здоровья” как характеристику того, что человек ограничен сам по себе (своим дефектом, а не обществом). <…> Однако не каждый человек с ограниченными возможностями здоровья может иметь статус инвалида» (2014: 162). Поэтому представляется более верным применение термина «лицо с ограниченными возможностями». Это имеет еще большее значение, когда речь идет о вовлеченности таких людей в сферу правоотношений в качестве их участников, особенно в рамках уголовного судопроизводства, учитывая, с одной стороны, повышенные риски нарушения прав человека при производстве по уголовному делу и те последствия, которые они могут повлечь за собой, с другой – стрессовый характер для его участников, который провоцирует различные негативные последствия, в том числе сказывающиеся на физических и когнитивных характеристиках лица, влияя на его возможность участвовать в процессуальных действиях (Курбатова, 2021: 120–125).
В данном словосочетании под «ограниченными» применительно к участникам уголовно-процессуальных отношений предлагается понимать как ограничения, возникающие с нарушением физической целостности человеческого организма или его органов (физические), так и когнитивные ограничения, к которым следует относить не только психические заболевания, но также психические расстройства и состояния, кроме того, ограничения работы когнитивных функций головного мозга человека, вызванные социальными факторами, влияющие на возможность самостоятельно участвовать в уголовном судопроизводстве. Под «возможностями» – способность участия в производстве по уголовному делу с учетом социального смысла, обусловленного имеющимися у них ограничениями. Так, каждый участник уголовного судопроизводства наделен правами и обязанностями, определяемыми его процессуальным статусом. Согласно части 1 ст. 11 УПК, регламентирующей принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, «суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав»1. Соответственно, указанное должно относиться и к лицам с ограниченными возможностями, если они являются участниками уголовного судопроизводства. При этом должен учитываться тот факт, что они более уязвимы, чем другие участники, а значит, это должно приниматься во внимание для обеспечения им той самой возможности участия.
Однако ни далее в ст. 11, ни в других, расположенных в гл. 2 УПК РФ, не затрагивается данный вопрос. Более того, в тексте Кодекса такие лица вообще не выделяются в отдельную обособленную категорию. Используемые в нем понятия, применяемые в разных статьях к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю, такие как с «физическими или психическими недостатками» (ст. 51, 96, 167 и др.), «с физическим или психическим состоянием» (ст. 45), с «психическим расстройством» и «отставанием в психическом развитии» (ст. 27, 125.1, 133, 191 и др.), нигде не раскрываются. Формулировка «с физическими или психическими недостатками» в настоящее время считается дискриминирующей, поскольку содержит указания на «изъяны, несовершенство, неправильность», согласно толковому словарю, деля тем самым людей на две соответствующие категории, где одни совершенны и правильны, а другие – нет. Хотя следует отметить, что на момент разработки кодекса представленное определение таковым по смыслу не являлось, современное негативное восприятие связано с эволюцией гуманистических идей2.
Существующих в настоящее время в УПК РФ глав 50 («Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних») и 51 («Производство о применении принудительных мер медицинского характера»), а также таких норм, как присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ), особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего (ст. 191 УПК РФ) и др., явно недостаточно. Они не демонстрируют системный и комплексный подход к урегулированию проблемы участия в производстве по уголовным делам лиц, физически и (или) когнитивно не способных должным образом реализовывать свои процессуальные статусы, которыми наделяются в результате вовлечения в сферу действия норм уголовно-процессуального законодательства. Не останавливаясь подробно в данной статье на раскрытии этих характеристик (Курбатова, 2021), следует отметить, что речь идет не только о болезнях, но и о социально значимых обстоятельствах, что является отражением социальной модели восприятия человека с ограниченными возможностями, где не только здоровье, но и такие естественные для человеческого организма физиологические процессы, как беременность или старость, а также принадлежность к социально уязвимым группам (мигрантам, неграмотным, аборигенам и пр.), обусловливают обязанность социального государства (которым, согласно ст. 7 Конституции, является и Россия) обеспечить ему возможность быть полноправным членом общества и государства во всех его сферах, в том числе в уголовном судопроизводстве.
На данный момент лица с ограниченными возможностями остаются не охваченными вниманием законодателя, тем самым создаются условия для нарушения их прав как участников уголовного судопроизводства. При этом, наоборот, должны быть предусмотрены дополнительные гарантии, обеспечивающие им не формальное, но действительное самостоятельное участие в процессе либо максимальное стремление к нему. Сказанное позволяет поднять общую проблему неурегулированности этой области, в связи с чем поставить вопрос о необходимости принятия следующих мер: 1) выделения в отдельную категорию участников уголовного судопроизводства из числа лиц с ограниченными возможностями, где под ограниченными возможностями понимаются физические и (или) психические состояния организма человека, а также причины когнитивного характера, при наличии которых лицо не может в полной мере, надлежащим образом, самостоятельно реализовывать свои процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности; 2) введении категории «надлежащее участие», под которой понимается способность лица в соответствии с принципами социальной справедливости, законности и равноправия самостоятельно участвовать в процессуальных действиях.
При этом следует внести ряд корректировок в гл. 2 УПК РФ, в частности изменить содержание принципа «охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», изложенного в действующей редакции ст. 11 УПК. Это основано на том, что положение ч. 1 ст. 11 УПК РФ не соответствует смыслу, заложенному в понятие «охрана прав и свобод человека и гражданина». Хотя среди ученых нет единства относительно его толкования, на что обращает внимание А.П. Смирнов (2010), тем не менее следует разграничивать охрану прав и создание условий для реализации прав участниками правоотношений. Исходя из содержания ч. 1 ст. 11 УПК РФ, можно сделать вывод, что в ней идет речь о втором варианте. Обязанность, возложенная на органы государства и должностных лиц по разъяснению участникам уголовного судопроизводства их прав и по созданию условий , в которых они смогут их осуществлять, означает, что в результате должна быть обеспечена возможность такого участия: самостоятельно, в полном объеме, осознавая характер своих действий (бездействия) и руководя ими.
В свою очередь, понятие «охрана» основано на дефиниции «охранять, ограждать, защищать от нападений и вражеских действий»1. Применительно к охране прав предполагается наличие механизма, предусмотренного государством, направленного на обеспечение недопущения нарушений прав и законных интересов участников правоотношений, а в случае выявления этого – принятия мер реагирования. На это обращает внимание М.Л. Базюк, понимая под охраной прав «совокупность охранительных и регулятивных норм права, регламентирующих предотвращение потенциальных и устранение имеющихся нарушений прав, свобод и интересов субъектов правоотношений»2. Анализируя этимологию слова «охрана» и связанных с ним терминов, В.Ю. Мельников приходит к выводу, что правильнее назвать статью 11 УПК РФ «Защита прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» (2010) и изменить ее содержание. Ряд авторов связывают охрану прав с обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства, что основано на акцентировании внимания в ст. 11 УПК РФ именно на безопасно-сти3. Т.Ю. Вилкова предлагает выделить «обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства» как отдельный самостоятельный принцип, вообще исключив статью 11 УПК РФ в действующей редакции4. Не погружаясь в дискуссии, отметим, что придерживаемся точки зрения Т.Ю. Вилковой, считая, что название данной статьи не соответствует ее содержанию, на что также обращают внимание Б.Т. Безлепкин5, В.И. Радченко6, С.П. Олефиренко (2010) и др. Данные авторы отмечают, что в таком виде она не исполняет задачи принципа уголовного судопроизводства. Тогда как, исходя из современного медико-социально-философского осмысления человека и понимания его особенностей, необходимо изначально ставить вопрос о возможности лица быть участником уголовно-процессуальных отношений и о надлежащем участии в уголовном судопроизводстве, где «надлежащее» означает «такое, какое следует; должное, соответ-ствующее»7. Представляется правильным использование именно данного термина, поскольку он ориентирован на качественные характеристики участия, тогда как, например, фраза «использование прав в полном объеме» или словосочетание «полноправное участие» – на количественные. Качественные характеристики отражены и в статье 7 Конституции РФ, определяющей Россию как социальное государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В связи с этим следует обратить внимание на такое понятие, как социальная справедливость, которое отражает саму сущность социального государства (Кочетков, 2009). Значимость социальной справедливости заключается в том, что, будучи основой развития современного общества8, она представляет собой меру равенства людей9 и является настолько важной идеей, что относится к категории принципов (Дыльнова, Панкратов, 2012; Румянцева, 2017). Н.О. Исмаилов отмечает: «В своей практической реализации принцип справедливости должен способствовать постоянному расширению справедливой меры равенства, а более высокая мера равенства - утверждению принципа справедливости», далее он выявляет закономерность: «Справедливое равенство, т. е. равенство возможностей и фактическое равенство всех перед законом, выступает гарантом социальной справедливости, а социальная справедливость является необходимым условием сохранения должной меры социального равенства» (2009: 95). Применительно к участникам уголовно-процессуальных правоотношений это означает возможность реализовывать свои процессуальные права не только количественно, в полном объеме, но и качественно - надлежащим образом.
Обобщая изложенное, отметим следующее:
-
- изменения законодательства есть закономерный процесс отражения в содержании правовых норм трансформаций, происходящих в обществе и государстве;
-
- принципы законодательства, имея признак нормативности, также предстают перед нами в виде статей нормативного правового акта, а значит, на них также распространяются указанные закономерности;
-
- уголовно-процессуальное законодательство носит во многом консервативный характер, что обусловливается спецификой самого уголовного судопроизводства; при этом внесение изменений по значимым, объективно назревшим вопросам является неизбежным для любой сферы правового регулирования;
-
- существенные изменения, произошедшие с конца ХХ в. в понимании сущности и задач социального государства, уход от понятий «инвалидизация», «инвалид» и переход на категории «ограниченные возможности» и «лицо с ограниченными возможностями» на международном уровне и в праве ряда государств обусловливают приведение норм УПК РФ в соответствие с данной практикой;
-
- такое реформирование уголовно-процессуального законодательства должно быть осуществлено на основе комплексного и системного подхода, учитывающего, с одной стороны, особенности лиц с ограниченными возможностями при регулировании их участия в производстве по уголовному делу, с другой - специфику самого уголовного судопроизводства;
-
- в качестве такого подхода предлагаем разработанный нами ранее компенсаторный подход, «суть которого сводится к тому, что участникам уголовно-процессуальных отношений, которые в силу имеющихся у них ограниченных возможностей не могут надлежащим образом самостоятельно реализовывать свои права и исполнять обязанности, должны быть предоставлены процессуальные средства, с помощью которых можно компенсировать (максимально стремиться к этому) то неравное положение, в котором они оказываются по сравнению с другими участниками» (Курбатова, 2022: 116);- в качестве основы для дальнейшего изменения уголовно-процессуального законодательства предлагаем дополнить новым принципом главу 2 УПК РФ, исходя из признаков принципов, в числе которых называются взаимосвязь с общеправовыми и межотраслевыми принципами права, фундаментальность, нормативность, объективно-субъективный характер их формирования, универсальность и др.1;
-
- данный принцип изложить в ст. 7.1 «Надлежащее участие в уголовном судопроизводстве», где в ч. 1 сформулировать понятие надлежащего участия как меру и критерий возможности самостоятельной реализации прав участниками уголовного судопроизводства; в ч . 2 переместить положение ч. 1 ст. 11 УПК РФ как не имеющее прямого отношения к охране прав участников уголовного судопроизводства, но значимое для раскрытия их надлежащего участия (мнение по поводу самой статьи 11 изложено ранее); в ч. 3 закрепить предоставление участникам уголовного судопроизводства из числа лиц с ограниченными возможностями процессуальных гарантий и средств, компенсирующих эти ограничения (максимально стремящихся к этому), с возложением соответствующих обязанностей на органы государства и должностных лиц, в чьем ведении на данный момент находится производство по уголовному делу;
-
- статью 5 УПК РФ дополнить нормой: «надлежащее участие - способность лица быть полноправным участником уголовного судопроизводства, в соответствии с принципами законности, равноправия и социальной справедливости самостоятельно участвовать в процессуальных действиях».
Изменения УПК РФ, основанные на идеях социальной справедливости и надлежащего участия, а также применяемом компенсаторном подходе, будут способствовать соблюдению прав человека в уголовном судопроизводстве и наступлению нового этапа развития российского уголовно-процессуального законодательства.
Список литературы Надлежащее участие в уголовном судопроизводстве как принцип уголовно-процессуального законодательства
- Володина Л.М. Система принципов уголовного судопроизводства // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при производстве по уголовным делам: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: О.В. Качалова, B.И. Качалов. М., 2016. С. 52-58.
- Гриненко А.В. Теоретические основы учения о принципах уголовного судопроизводства // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при производстве по уголовным делам: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: О.В. Качалова, В.И. Качалов. М., 2016. С. 58-65.
- Дыльнова Т.В., Панкратов И.А. Социальная справедливость - важнейший принцип социальной политики государства // Информационная безопасность регионов. 2012. № 1 (10). С. 75-79.
- Исмаилов Н.О. Справедливость как мера равенства // Социология власти. 2009. № 8. С. 95-103.
- Калинин П.А. Понятие и общая характеристика принципов российского законодательства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 1 (90). С. 15-21.
- Козырева О.А. Анализ дефиниции «лицо с ограниченными возможностями здоровья» // Качество. Инновации. Образование. 2016. № 12. С. 32-38.
- Кочетков В.В. Справедливость как сущность социального государства // Философия права. 2009. № 5 (36). С. 32-36.
- Курбатова С.М. Высокие технологии как средство компенсаторного характера для реализации правового статуса участников уголовного судопроизводства, имеющих ограниченные возможности // Высокотехнологичное право: генезис и перспективы: материалы III Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. / редкол.: Л.В. Бертовский, С.М. Курбатова, Е.А. Ерах-тина, Г.С. Девяткин. Красноярск, 2022. С. 115-119.
- Курбатова С.М. Теоретические основы уголовно-процессуального статуса лиц с ограниченными возможностями: проблемы теории и практики: монография. Красноярск, 2021. 167 с.
- Мельников В.Ю. Охрана и защита прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. № 3. С. 87-92.
- Муравьева М.Г. Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможностями? Обзор истории инвалидности // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10, № 2. С. 151-166.
- Олефиренко С.П. Доктринальное значение статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в уголовном судопроизводстве // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 25. С. 62-65.
- Рахимова Р.И. Инвалид и инвалидность в международном праве // International Law Journal. 2023. Т. 6, № 1. С. 9-13.
- Румянцева Ю.В. Роль принципа справедливости в системе социального государства // Научный поиск. 2017. № 2.1. C. 26-27.
- Смирнов А.П. Соотношение понятий «охрана прав» и «защита прав» // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 331. С. 123-125.
- Софронова Т.В. Инвалидность как правовая категория: история эволюции понимания термина // Современное право. 2014. № 3. С. 160-164.
- Хасанова С.Г. К вопросу о понятии и значение принципов уголовного судопроизводства // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015. № 4 (167). С. 191-194.