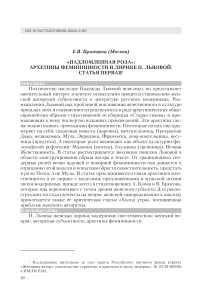«Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья первая
Автор: Кузнецова Е.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Поэтическое наследие Надежды Львовой невелико, но представляет значительный интерес в аспекте осмысления процесса становления женской авторской субъектности в литературе русского модернизма. Размышления Львовой над проблемой воплощения женственного в культуре прошлых эпох и современности реализуются в ряде архетипических общеевропейских образов стихотворений ее сборника «Старая сказка» и примыкающих к нему посмертно изданных произведений. Эти архетипы также можно назвать проекциями фемининности. Некоторые из них она примеряет на себя: сказочная невеста (царевна), мечтательница, Прекрасная Дама, незнакомка, Муза, Эвридика, Франческа, дева-воительница, вестница (предтеча). А некоторые роли возникают как объект культурно-философской рефлексии: Мадонна (святая), блудница (грешница), Вечная Женственность. В статье рассматривается эволюция поисков Львовой в области конструирования образа автора в тексте. От традиционных гендерных ролей вечно ждущей и покорной фемининности она движется к отрицанию этой модели и попыткам обрести самостоятельность, предстать в роли Поэта, а не Музы. В статье прослеживаются связи архетипов женственности в ее лирике с моделями, предложенными в мужской поэзии эпохи модернизма, прежде всего, в стихотворениях А. Блока и В. Брюсова, которые она переписывает с точки зрения женского субъекта. Для реконструкции взгляда поэтессы на вопрос женской самореализации к анализу привлекается также ее критическая статья «Холод утра», посвященная проблеме женского авторства.
Н. львова, женская лирика, модернизм, постсимволизм, женский вопрос, авторская субъектность, архетипы фемининности
Короткий адрес: https://sciup.org/149143551
IDR: 149143551 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-90
Текст научной статьи «Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья первая
Художественное и литературно-критическое наследие Надежды Григорьевны Львовой (1891–1913) невелико, но имеет ценность в аспекте осмысления процесса становления женской авторской субъектности в литературе русского модернизма. Творческий путь поэтессы составил всего два года (1911–1913). За это время она выпустила книгу стихов «Старая сказка. Стихи 1911–1912 гг.» (1913), которая в начале 1914 г. практически сразу после ее гибели была переиздана с дополнениями, написала критическую статью «Холод утра (несколько слов о женском творчестве)» и две рецензии, занималась переводами.
Поэзия Львовой долгое время оставалась в тени ее мучительного романа с Валерием Брюсовым и ранней смерти в результате самоубийства. Творчеству поэтессы посвящено не так много работ, однако в последнее время выходят новые исследования, а также переиздания ее произведений. В недавно выпущенной монографии Т.С. Карпачевой «“Мой недопе-тый гимн весне”: жизнь и творчество Надежды Львовой» (2021) проведена реконструкция развития личности и душевного склада поэтессы, ее тяжелых взаимоотношений с возлюбленным и учителем Валерием Брюсовым. С опорой на рукописи Львовой Карпачева восстанавливает ее творческую лабораторию, оценивает влияние брюсовской школы, описывает основные темы и мотивы ее лирики, а также публикует письма к Брюсову и сборник «Старая сказка» с дополнением посмертных стихотворений [Карпачева 2021]. Однако вклад поэтессы в становление женской поэзии и отражение в ее судьбе и творчестве «гендерного перелома», произошедшего в эпоху модерна, остается вне фокуса внимания исследовательницы.
Значительный шаг в этом направлении сделан в статье Л. Цзоу и М.В. Михайловой, в которой поэзия Львовой рассматривается в контексте бурного развития женской лирики: творчества А. Ахматовой, Л. Копыловой и В. Инбер. Исследовательницы приходят к выводу, что в стихах, написанных летом и осенью 1913 г., незадолго до смерти, Львова опирается на ряд открытий Ахматовой, обращается к ее манере воспроизведения в стихотворении диалога героя и героини, передаче внутреннего состояния женщины через внешние детали (жест, костюм и т.д.). Наиболее «ахматовским» произведением поэтессы представляется лирическая пьеса «Мне хочется плакать под плач оркестра…» [Цзоу, Михайлова 2021]. Но Ахматова не стала для молодого автора основным собеседником и учителем, и ее влияние прослеживается всего в нескольких текстах Львовой. Намного значительнее для нее были лирические сюжеты, предложенные А. Блоком и В. Брюсовым, которые она «переписывает» с женской точки зрения.
В данной статье мы бы хотели подойти к литературному опыту Львовой как к одному из примеров попытки конструирования женской авторской субъектности в литературе русского Серебряного века путем отталкивания от схем, заданных в мужской поэзии. Создание образа женщины-автора было не такой простой задачей, как это может показаться, особенно в поэзии. В русской культуре XVIII–XIX вв. поэтическое творчество наделялось пророческими, сверххудожественными функциями, и фигура поэта-пророка была неизменно мужской.
Тем не менее в период 1890–1920-х гг. происходят важные перемены в положении женщин, повышается их активность в профессиональной сфере, в литературе, театре, живописи… Особенно масштабным было вторжение женщин в область поэзии: «Женская лирика является одним из достижений того культурного труда, который будет завещан модернизмом – истории», – писал Ин. Анненский в статье «О современном лиризме» [Анненский 2002, 333]. Однако выступление представительницы прекрасного пола в качестве творца, производящего культурные ценности, воспринималось в социуме неоднозначно, встречало сопротивление критиков и литераторов-мужчин, несмотря на то что многие из них с удовольствием выступали в роли учителя (В. Брюсов, М. Волошин, Н. Гумилев и др.).
Гендерный порядок эпохи «рубежа веков» отличался маскулинностью, а значит все активные роли (защитник, рыцарь, учитель и др.) и способность к творческому процессу закреплялись за мужским началом (гений, мастер, Орфей и т.д.). Нормативная фемининность включала в себя образы матери, жены, невесты (девы), музы и вдохновительницы, прекрасной дамы и объекта поклонения (Дева Мария, Лаура, Беатриче и др.). Как пишет К. Эконен, для андроцентричного общества характерны «бинарное и комплементарное противопоставление полов», «нейтральность» маскулинной и «маркированность» фемининной категорий. Иными словами, маскулинное отождествляется с общечеловеческим, а фемининное – это сугубо женское, при этом фемининное не функционирует самостоятельно, но лишь вместе с категорией маскулинного, стоящей к ней в оппозиции [Эконен 2011, 29–30]. Без «женского» как объекта спасения / вдохновения / воспевания «мужское» не может состояться и реализовать себя, однако при таком подходе «женское» закрепощается в неполноправном, объектном положении: «В сфере социального поведения это проявляется в том, что, с одной стороны, к женщине относятся с рыцарским восхищением и желанием спасти. С другой стороны, ей отказывают в творческих способностях и праве на субъектность. В сфере эстетики двойственное отношение к фемининности выражается в том, что фемининность выполняет важнейшую функцию в творчестве, хотя одновременно символизирует отсутствие творчества» [Эконен 2011, 181].
Львовой пришлось искать свой авторский путь в литературе в тот момент, когда, с одной стороны, возможности женщины расширялись, но с другой стороны, старые патриархатные парадигмы сознания были еще очень сильны. Мы постараемся далее продемонстрировать ее эволюцию от полного вживания в традиционные гендерные роли к их проблематиза-ции; проанализировать то, как она отразила дискуссию о женском начале, которая развернулась в русской и европейской литературе и философии в начале ХХ в., а также попытаемся ответить на вопрос, смогла ли она обрести авторскую субъектность.
Стихотворения Львовой демонстрируют результаты ее размышлений над способами воплощения женственного как в культуре прошлых эпох, так и в современности. Вопросы гендерного неравенства, специфика женского художественного самовыражения, широко обсуждаемые в эпоху Серебряного века, не могли не волновать молодую поэтессу. Проблема профессионального продвижения и возможности зарабатывать литературным трудом стояла перед ней очень остро, так как литература была для нее не развлечением, а делом жизни и источником средств к существованию. В поисках новой идентичности и ответа на вопросы «Что есть я как женщина?», «Что есть женщина-автор?» Львова перебирает целый ряд архетипических образов, которые также можно назвать проекциями фемининности.
Первым и самым очевидным архетипом становится образ царевны, спящей невесты (красавицы), героини какой-то неназванной «старой сказки». Эта проекция конструируется на всех уровнях ее единственной книги: заглавие, эпиграф из стихотворения Г. Гейне «Es ist eine alte Geschichte…» («Эта старая сказка…»), первое прологовое стихотворение «Старая сказка», следующее за ним второе стихотворение сборника, а также одно из последних стихотворений книги «Лежу бессильно и безвольно…». Выбор названия сборника Львовой, возможно, также навеян поэмой «Старая сказка» Т.Л. Щепкиной-Куперник, опубликованной в сборнике «Из женских писем» (1903, переиздание 1911). Можно сказать, что этот архетипический образ сказочной царевны является обрамляющим для всего сборника, сквозным для рассказанной романтической истории: если в стихотворении «Я оденусь невестой – в атласное белое платье…» речь идет о предвкушении любви и ожидании жениха, то в заключительном для развития любовного сюжета стихотворении говорится о смерти невесты, так и не соединившейся со своим возлюбленным. После этого финального стихотворения следует раздел «Заключение», являющийся по сути эпилогом и повествующий уже о поэтическом творчестве, так что его можно рассматривать как альтернативу тривиальной старой сказке, как попытку преодоления земной конечности бытия и достижения бессмертия с помощью искусства.
Близок к образу царевны-невесты образ мечтательницы и сновидицы, также звучащий в целом ряде стихотворений, например, «Я была в каких-то непонятных странах…» и «Я больше не хочу мучительных видений!», а также образ Прекрасной Дамы или маркизы, которая с умилением смотрит на молодого пажа, еще не познавшего любви (стихотворение «Беспечный паж, весь в бархате, как в раме…») или уже безнадежно влюбленного в свою госпожу (следующее по порядку в книге стихотворение «Зачем Вы со мною, Вы – нежный, Вы – радостный, юный?..»). В этих стихотворениях Львова отзывается на многочисленные лирические произведения «мужской» лирики (К. Бальмонт, А. Блок, А. Белый, И. Северянин и др.), написанные в условной средневековой стилистике и проникнутые флером куртуазной любви, и показывает этот сюжет (зарождение и развитие любви между героями неравными по своему социальному статусу) глазами самой дамы, а не глазами влюбленного в нее пажа или рыцаря.
Лирическая героиня в данных ипостасях демонстрирует черты традиционной женственности: она покорна судьбе, хотя предугадывает несчастный финал, она ждет, а не действует, хотя понимает бесполезность своего ожидания. Приоритетом для нее является внутренняя жизнь, ее переживания, сны и видения, а любовь рассматривается как единственный смысл бытия:
Я оденусь невестой – в атласное белое платье, Серебристой фатой обовью темноту моих кос, И кому-то, во мглу, протяну безнадежно объятья, И покорно отдамся потоку стремительных грез. <…>
И луна мне шепнет, что бесцельно мое ожиданье, Что надолго-надолго – навеки! мой сказочный плен, Что напрасен порыв к неразгаданной тайне свиданья… Я одна навсегда в многогранном кольце перемен.
На устах утомленных, не вспыхнув, погаснут проклятья. Бледный день, разгораясь, глаза мне начнет целовать. …Ночью снова надену атласное белое платье
И кого-то во мгле буду ждать, буду ждать, буду ждать…
[Львова 1914, 13]
Полусказочные, вневременные архетипы вечной невесты и Прекрасной Дамы призваны воплотить сценарий идеальной любви двух предназначенных друг другу судьбой половин, которые будут вместе и на земле, и в загробном мире. Им отчасти противопоставлен образ современной женщины (условной незнакомки), поданный в антураже большего города, в тени ночных бульваров, в огнях ресторана… «Ресторанные» стихотворения Львовой (два произведения в первом издании «Старой сказки» – «Сверканье люстр хрустальных…» и «Знаю я: ты вчера в ресторане…» – и одно среди дополнительных посмертных стихотворений – «Вновь тот же зал, сверкающий, нарядный…») отчетливо спроецированы на блоковские лирические пьесы с цыганско-ресторанным колоритом. В качестве самого наглядного примера следует привести знаменитое стихотворение А. Блока «В ресторане» (1910), от которого Львова очевидно отталкивается:
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко Ты сказала: «И этот влюблен».
И сейчас же в ответ что-то грянули струны, Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным, Чуть заметным дрожаньем руки... <…>
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.
[Блок 1980, 152].
Блок описывает ситуативно сложившийся любовный треугольник: лирический герой, являясь случайным посетителем ресторана, наблюдает за парой, проводящей совместный вечер, и флиртует с чужой дамой, посылая ей и жаркие взгляды, и розу в бокале вина. Отвергая поклонника на словах, на эмоциональном уровне незнакомка оказывается покорена.
Аналогичный сюжет свидания в ресторане, за которым наблюдает некто третий, представлен у Львовой с точки зрения женщины. И если у Блока выстраивается ситуация галантного соперничества с кавалером понравившейся дамы, то Львова дает понять читателю, что речь идет об измене, происходящей на глазах оставленной женщины, мучительно наблюдающей более счастливую соперницу:
Знаю я: ты вчера в ресторане,
Опьяненный приветом огней,
Как во сне, как в бреду, как в тумане, Наклонялся взволнованно к ней.
И она отдавалась – улыбкой,
И она побежденно ждала,
И казалась печальной, и гибкой,
И томящей, – как летняя мгла.
Золотая симфония света,
И блестящих волос, и вина,
Обжигала, – как зов без ответа,
Как молчание вечного сна.
Но глазам, что молили и ждали,
Скрипки радостно бросили: «Нет!»
…А вино хохотало в бокале, Золотое, как волосы Кэт.
[Львова 1914, 63].
В «ресторанных» стихотворениях Львовой варьируются блоковские образы вина, розы, хрусталя (люстры, бокалы), света, золота, скрипок и также создается атмосфера эротической близости мужчины и женщины, находящихся вдвоем в людном месте. Отметим очевидную перекличку строк: «Золотого, как небо, аи» и «Золотое, как волосы Кэт». Но за внеш- ней пеленой страсти у Львовой прочитывается пустота, одиночество, отсутствие подлинной вечной любви.
Внешний антураж современности не меняет сути: фемининность все так же в плену у маскулинного начала, незнакомка внутренне одинока так же, как и сказочная царевна. Она отдается и побежденно ждет внимания. Удачливая соперница и покинутая возлюбленная – обе зависимы от благосклонности мужчины. «Третий» в любовном треугольнике у Львовой не вступает в борьбу, и если у Блока представлен безмолвный и в целом победный флирт в духе бодлеровских городских картин, то поэтесса описывает вечную драму женской любви, неизменно кончающуюся разлукой. Мотив предрешенности финала задается сразу в прологовом стихотворении сборника «Старая сказка»: «…все уж известно из строк перечтенных страниц!» [Львова 1914, 13].
Брюсов также не остался в стороне от сюжета свидания в ресторане и создал несколько лирических пьес на эту тему, но наиболее важным для Львовой могло быть его стихотворение «В ресторане» (конец 1911 г.), которое также, очевидно, вдохновлено Блоком, и его можно рассматривать в аспекте брюсовского диалога с младшим современником: «Вспоминаю под жалобы скрипки, / В полусне ресторанных огней, / Ускользающий трепет улыбки – / Полудетской, желанной, твоей…» [Брюсов 1973, 51]. Учитывая, что это стихотворение написано в период начала знакомства Брюсова с Львовой, она могла счесть, что оно посвящено ей, хотя лирическая героиня брюсовского стихотворения «В ресторане» является скорее собирательным образом. Т.С. Карпачева полагает, что это стихотворение Брюсова вдохновлено именно Львовой и отражает ее свидания с ним осенью 1911 г. [Карпачева 2021, 83]. Однако также исследовательница указывает, что судя по письмам никаких близких личных отношений между Брюсовым и Львовой в конце 1911 г. еще не было, они вели деловую переписку по издательских вопросам [Карпачева 2021, 82]. Собственно их роман начинает развиваться уже в 1912 г., поэтому вряд ли только Львова является адресатом брюсовского «В ресторане» и вряд ли только его творчество актуализировало ее стихотворный отклик. В своей вариации поэтесса отвечает и Блоку, и Брюсову.
Антураж ресторана как декорации для раскрытия небольшой драмы в рамках любовного треугольника несомненно полюбился женщинам-поэтессам. В стихотворении Марии Лёвберг «В ресторане» из ее единственного сборника «Лукавый странник» (1916) этот сюжет снова воплощается и обнаруживает аллюзии на всю предшествующую модернистскую традицию: Блока, Брюсова, Львову:
И здесь о счастьи молят скрипки, А губы сладкий жжет ликер. Я с затаенною улыбкой Чужой подслушиваю спор. <…>
Пускай за столиком соседним Безумец бедный изнемог И бросил громко свой последний, Свой вызывающий упрек.
Пускай в ответ она взглянула
Ему без жалости в лицо И через столик протянула Свое венчальное кольцо. <…>
[Лёвберг 2022, 140].
Мужская маска маскулинного лирического героя, свойственная поэзии Лёвберг, роднит ее стихотворение с блоковским: дама окружена двумя кавалерами. Но лирический герой Блока не скрывает своего внимания к очаровавшей его незнакомке, а у Лёвберг вся ситуация представлена как тайное наблюдение, подглядывание (подслушивание), а кульминацией становится разрыв героини с одним из мужчин – это связывает ее стихотворение с вариацией Львовой, где также прочитывается ситуация отказа.
Активное действие со стороны женщины, попытка борьбы с возлюбленным отражены, пожалуй, только в одном стихотворении Львовой – «Твой шлем покатился, и меч твой разбит…», в котором лирическая героиня предстает в нетипичном для поэтессы образе воительницы. Его возникновение, очевидно, связано с наличием в лирике Брюсова стихотворения «Бой» (1907) о смертельном поединке возлюбленных, спроецированном на эддический сюжет борьбы Зигфрида и Брунгильды, ставший сверхпопулярным в культуре русского Серебряного века благодаря оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». Львова ведет с Брюсовым тонкий поэтический диалог (на эту важную для нее перспективу указывает взятый ей эпиграф из стихотворения Брюсова «…Радостно крикну их праха: “я твой”»). Если герой Брюсова терпит поражение в бою и умирает, сраженный рукой своей любимой, которая становится победительницей, то у Львовой победителей нет. Ее героиня побеждает на этот раз, но это бессмысленное торжество, так как ее смерть в скором будущем предрешена: «И – вот ты повержен, недвижим и нем… / Но также расколот мой щит и мой шлем. / Ты радостно шепчешь из праха: “я твой!” / Но смерть за моею стоит головой» [Львова 1914, 83].
Основное отличие в трактовках поединка мужского и женского начала у двух поэтов заключается в том, что лирический герой Брюсова ведет борьбу не столько с конкретной возлюбленной, сколько с самой Судьбой в женском обличье, а Львова наделяет свою героиню чертами земной, смертной женщины, сводит весь конфликт к неразрешимому любовному противостоянию в этом мире, но верит в неизбежное соединение в мире ином. По верному замечанию В.Б. Зусевой-Озкан, Брюсов «грезит о “поединке равных” с Роком», а Львова – «о вечной любви, что соответствует гендерным стереотипам и эс-сенциалистским представлениям о “мужском” и “женском”» [Зусева-Озкан 2021, 153]. Таким образом, даже наделяя свою героиню инициативой в одном единственном стихотворении, Львова не меняет традиционного для андроце-тричного социума распределения ролей: в конечном итоге на уровне метасюжета герой побеждает деву-воительницу, которая рассматривает это поражение как необходимую с ее стороны жертву для загробного соединения.
Помимо лирики Брюсова важным источником для создания данного стихотворения Львовой могла стать баллада немецкого писателя Феликса Дана «Песнь Валькирии» (Lied der Walküre). Сборник баллад Дана под названием «Двенадцать баллад» (Zwölf Balladen) вышел в 1875 г. В России в начале ХХ в. эти произведения могли стать особенно актуальны в связи с огромной популярностью тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга», которая звучала не только со сцены, но и издавалась в печатном виде как либретто (см. например: Трилогия «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера. СПб., 1907. (2-е изд. доп. и испр.: СПб., 1908)), и побудила многих писателей обратиться к исследованию немецкого эпоса или к включению его сюжетов в собственные произведения (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, Е. Замятин и др.). Львова могла познакомится с «Песнью валькирии» при изучении немецкого языка в Елисаветинской женской гимназии, так как это произведение удобно для чтения и перевода. Переклички с балладой «Песнь валькирии» помимо обращения к образу девы-воительницы, убивающей своего возлюбленного, особенно заметны при сопоставлении финалов обоих произведений. Дан также описывает чаемое валькирией соединение с убитым возлюбленным в раю и его стихотворение также написано от женского лица. Процитируем «Песнь валькирии» с некоторыми сокращениями в переводе С.А. Свириденко (Софии Свиридовой), автора первого полного поэтического перевода «Эдды» на русский язык. Ее перевод был создан в начале 1910-х гг. и остался неопубликованным:
В дни юной весны твоей видела я, Мой витязь, расцвет твоего бытия, Любуясь тобою, заботясь, любя, От бед и скорбей я хранила тебя. <…>
Когда же настал предназначенный срок, И смерть тебе рек неминуемый рок – Тому, чей удел я при жизни блюла – Скорейшую, лучшую смерть я дала.
Ты полчища вражьи победно разбил; В очах твоих был торжествующий пыл, Вскричал ты, ликуя: «Победа, друзья!..» – В тот миг мой удар нанесла тебе я.
Твой взор отуманила смертная мгла.
Но бережно павшего я подняла.
И в высь тебя мчу я, чрез зыбь облаков, В Валгаллу, мой витязь! в обитель богов.
[РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. № 748. Л. 1–2]
Сравним процитированный текст с финалом стихотворения Львовой «Твой шлем покатился…»:
<…> Заветное имя лепечут уста.
Даль неба, как первая ласка, чиста.
И я, умирая, одно сознаю:
Мы вместе! Мы вместе! Очнемся в раю
[Львова 1914, 83].
Ключевым посылом всего стихотворения Львовой становится идея посмертного соединения любящих в раю, совпадающая с финальным пассажем баллады Дана, провозглашающим встречу валькирии и ее витязя в Валгалле. Обращает на себя внимание тождественность метрического рисунка перевода Свириденко и стихотворения Львовой (это логаэд, у которого первая стопа каждой строки ямбическая, а далее следуют три стопы анапеста), что позволяет предположить, что переводчица при поиске адекватного размера для передачи немецкого стиха Дана ориентировалась на «валькирическое» стихотворение Львовой.
В связи с идеей загробного соединения и предназначенности друг другу двух половин Львовой так важны примеры неразлучной любви, идеальной и недостижимой. Один такой сюжет называется прямо – это несчастная любовь Паоло и Франчески, описанная Данте в «Божественной комедии». Тени двух влюбленных обречены вечно кружится в вихре во втором круге ада, наказанные за плотскую страсть и предательство супружеских клятв. Образ Франчески был актуализирован и переосмыслен в женской лирике Серебряного века, пьесу Г. Д’Аннунцио «Франческа да Римини» поставила В. Комиссаржевская в своем театре в 1908 г., о ней писала издательница «Женского вестника» М.И. Покровская в статье «Франческа да Римини и Саломея», размышляя о двух типах женственности и двух видах любви: жертвенной и разрушительной. При этом любовь Франчески трактуется как любовь типично женская, уступающая, покоряющаяся, а страсть Саломеи как зов плоти, свойственный скорее мужчине, а не женщине. Обе героини предстают жертвами этой непреодолимой физической страсти и являются, по мнению автора, дурными примерами для общества, доказывающими непреодолимую власть над человеком полового влечения [Покровская 1908]. Поэтесса Магда Ливен в сборнике «Стихи» (1911) опубликовала стихотворение «Франческа и Паоло», которое, вероятно, было известно Львовой, так как она высказывает такой же взгляд на посмертную судьбу двух влюбленных. Быть вечно вместе не на земле и даже не в раю, а в неком промежуточном пространстве – это не наказание, а награда. В раю души умерших ожидает забвение их любви, и это и есть самая страшная участь:
О друг мой, о милый, я в рай не желаю, – там в вечном забвеньи блаженные реют созданья, чужды и далеки небесному краю мирские волненья, мирская любовь и страданья. Не лучше ль, обнявшись, сливаясь душою, как те две знакомые тени печального края, витать неразлучно, навеки с тобою?
О друг мой, о милый, иного не надо мне рая!
[Ливен 2000, 127].
Львова вспоминает о Франческе в стихотворении под названием «Баллада», опубликованном во втором выпуске «Старой сказки» среди посмертных произведений. В ее интерпретации загробное слияние с возлюбленным в бесконечном танце – это самый лучший исход любви. Проанализированное выше «валькирическое» стихотворение «Твой шлем покатился…» также спроецировано на историю Паоло и Франчески посредством того, что помещено в «дантовский» раздел “Ad morte” с эпиграфом из «Божественной комедии»: “Amor condusse noi ad una morte” («Любовь привела нас к смерти»), но Львова по-своему «переписывает» историю несчастных влюбленных – они найдут успокоение не в аду, а в раю.
Второй ключевой для Львовой пример любви, побеждающей смерть, – миф об Орфее и Эвридике, разлученных на земле, но не разлюбивших друг друга. Эта легенда не называется, но мерцает в ряде стихотворений, в которых лирическая героиня предстает в образе тени, спускающейся по ступеням куда-то в темноту «на грани двух миров» (например, стихотворение «И оба – с крыльями! А я лететь не смею!..») или, наоборот, описывается выходящей на поверхность из некого склепа или подземелья. Если в любви Эвридика предстает ведомой, зависимой от Орфея, который не смог ее спасти, воскресить и вывести из царства мертвых, то в плане искусства она выступает для него музой, вдохновляет его на творчество, ведет за собой, указывая путь. Такая двойственность Эвридики, безусловно, важна Львовой в контексте ее размышлений о собственной творческой субъектности.
Образ Эвридики становится особенно значим для нее еще и по той причине, что к нему обращается Брюсов в ряде своих стихотворений: «Призыв» (1900) и «Орфей и Эвридика» (1903–1904). В «Призыве», написанном от женского лица, Эвридика просит Орфея прийти в ее склеп, но не для спасения, а для прощания и заверения в вечной любви. Во втором стихотворении Орфей пытается спасти возлюбленную, но она сама отказывается покидать царство смерти, где обрела наконец-то покой. Отметим наличие в этих стихотворениях Брюсова очень близких Львовой по духу психологических трактовок и мотивов: бытие за гранью земной реальности идеализируется, наделяется высокими ценностными характеристиками.
Если в произведениях раздела “Ad morte” ее героиня как бы следует за брюсовской Эвридикой и декларирует невозможность и нежелание вернуться к жизни («Что мне до запоздалых слов! / Взгляни, взгляни как тихо сплю я… / И не могу, и не хочу я / Тебе ответный бросить зов!» [Львова 1914, 84], то в первом стихотворении заключительной части «Старой сказки» «Муза, ты снова со мною!» Эвридика оказывается все же воскрешена. В этом важнейшем для конструирования авторской субъектности тексте Львова по-своему интерпретирует архетип фемининности, который можно обозначить как Муза-Эвридика:
Муза, ты снова со мною!
Снова, как прежде, верна мне!..
Правда ль, что чьей-то рукою
Склепа раздвинуты камни?
Правда ль, что в жизни мы снова? Правда ль, что солнце сверкает? …С сонной улыбкой, оковы Смерти – мечта отряхает.
Нас ли с тобой погребали?
В сумраке сонного склепа Нас ли, дрожа, целовали, Складки прозрачного крепа? <…>
Я от молчанья – устала.
Солнечных гимнов – мне страшно… Муза! Откинь покрывало, Спой мне про сон наш вчерашний.
Спой мне про снежные горы, Про упоенье бесстрастья… Солнца сжигают нас взоры… Муза! Мне страшно – от счастья!
[Львова 1914, 87–88].
Общая канва лирического сюжета, повествующая о выходе из склепа и возвращении к земной жизни, позволяет предположить, что миф об Орфее и Эвридике составляет подтекст данного произведения, что было также отмечено В.Б. Зусевой-Озкан [Зусева-Озкан 2021, 150]. По версии Львовой, выход из царства мертвых окончился удачно в отличие от греческой легенды. При этом структура лирических «Я» в этом произведении представляется усложненной и неоднозначной. С одной стороны, можно предположить, что перед нами речь обретшей дар слова Эвридики, обращенная к Музе, и тогда подруга Орфея неожиданно сама занимает его место, так как обращаться к Музе – это прерогатива поэта. С другой стороны, можно утверждать, что Муза и Эвридика представляют собой один двойственный субъект: «Нас ли с тобой погребали?», «Нас ли с тобой целовали?».
На такую трактовку указывает яркая художественная деталь, а именно, покрывало, которым окутана Муза у Львовой, и которым, согласно мифу, была покрыта тень Эвридики во время ее пути из Царства мертвых на землю. Тогда лирическая героиня предстает в этом стихотворении в своей ипостаси Музы для Орфея, она и Муза – это одно лицо.
Согласно исследованиям К. Эконен в культуре модернизма архетип Музы престает как интегральное, метафорическое определение фемининного, чрезвычайно важное для функционирования творческого процесса, для осуществления акта творения, производимого субъектом, но при этом сама Муза, как и воплощенное в ней фемининное, лишена креативной функции и не может быть автором-творцом: «Муза является другим и зеркалом творческого субъекта, со своей телесной красотой и со своими психическими качествами она открывает дверь к вдохновению, она участвует в творчестве как часть комплементарной пары (поэт и муза – Е.К.), и, наконец, муза нередко воплощена в произведениях искусства» [Эконен 2011, 100].
Очевидно противоречие двух ролей, из которого Львова пытается выйти, обозначив свою авторскую субъектность. Чтобы стать полноправным творцом, ей надо перестать быть музой-Эвридикой для Орфея, ей надо самой превратиться в него. И на наш взгляд, в этом стихотворении такая подмена имплицитно происходит: обращаясь к Музе, Львова опирается на обширную русскую романтическую традицию (вспомним хотя бы стихотворение А. Пушкина «Муза» или В. Жуковского «Я Музу юную, бывало, встречал в подлунной стороне…») и предстает сама в образе Поэта, утверждает свое авторство, присваивает себе право создавать искусство. Но не только романтическая и классическая поэзия повлияла на Львову в данном случае. Обращение к музе обрело новое дыхание в женской лирике Серебряного века, стихотворения под названием «Моя муза» пишут, например, М. Закревская-Рейх (сборник «Чары весны», 1909) и Л. Столица (неопубликованный при жизни сборник «Лазоревый остров», созданный в 1916–1917 гг.), А. Ахматова посвящает музе несколько произведений («Музе» 1911, «Муза ушла по дороге…» 1915, «Муза» 1924). Так что Львова чувствовала тенденции современного ей творчества русских поэтесс, как и она заинтересованных в создании образа женщины-поэта.
Безусловно, она знала и стихотворение своего учителя В. Брюсова «Поэт – Музе» с эпиграфом о творчестве из стихотворения К. Павловой («Моя напасть, мое богатство, / Мое святое ремесло» [Брюсов 1987, 284]), опубликованное уже в период их романа в сборнике 1912 г. «Зеркало теней». Финальные четверостишия этого послания, наполненные мотивами самоубийства, звучат как мрачные пророчества: творческое вдохновение связывается Брюсовым не только с радостью жизни, но и с искусом смерти – возлюбленной или своей собственной. Служение Музе ставится превыше всего на земле, и только ей поэт клянется в верности:
<…> Когда стояла смерть, в одежде черной, У ложа той, с кем слиты все мечты, Сквозь скорбь и ужас, я ловил упорно Все миги, все черты.
Измучен долгим искусом страданий, Лаская пальцами тугой курок, Я счастлив был, что из своих признаний Тебе сплету венок.
Не знаю, жить мне много или мало, Иду я к свету иль во мрак ночной, – Душа тебе быть верной не устала, Тебе, тебе одной!
[Брюсов 1987, 284].
В стихотворении Львовой о музе тема смерти, точнее – воскресения, также переплетается с темой творчества и исключительно значимым становится процесс перехода из тьмы к свету, от молчания к речи, из подчиненного и ведомого положения к самостоятельному бытию, к пребыванию на солнце и в горах, волнительному, пугающему и ведущему к освобождению от любви: «Спой мне про снежные горы, / Про упоенья бесстрастья… / Солнца сжигают нас взоры… / Муза! Мне страшно от счастья!». Творчество несомненно приносит счастье, но вступить на этот путь страшно, словно ты пробуждаешься ото сна и оказываешься в новой реальности.
Эту неуверенность, неумение жить и мыслить без мужчины в качестве другого (объекта страсти, учителя), почувствовал критик А.А. Гизетти, назвавший Львову «последней тургеневской девушкой» [Гизетти 1915, 154]. В своем эссе «Три души» (о лирике Ахматовой, Львовой и Марии Моравской) в части, посвященной Львовой, он пишет: «…страшно пленнику на свободе <…> душа стала уже рабской» [Гизетти 1915, 150–151]. Следующее в заключительном разделе «Старой сказки» стихотворение подтверждает это утверждение критика – необходимость начать новый, самостоятельный путь и неуверенность в собственных силах:
Погас, как дали аметистовые, Мой сон, не вспыхнув наяву… Страницы жизни перелистывая, Начну ль я новую главу?
И лира, музою мне вверенная, Вновь зазвучит ли в тишине?
И вновь промчится ль песнь размеренная,
Мой недопетый гимн весне?
Увижу ль страны обетованные,
Куда иду сквозь стоны мук?
Иль упадут – томленьем скованные –
Изгибы ослабевших рук?
И я сама склонюсь, безжизненная, На холодеющий уступ, И лишь улыбка укоризненная – Кому? – окрасит бледность губ?..
[Львова 1914, 89].
А последнее стихотворение «Старой сказки», написанное от лица коллективного лирического субъекта «Мы», отчасти опровергает оптимистичный настрой стихотворения «Муза, ты снова со мною!» и утверждает, что все ныне живущие и ныне творящие женщины еще не полноценные авторы, а только предтечи новой жизни, весны и дня, которые наступят вслед за зимой и ночью:
Мы – предтечи дальней жизни – мы пройдем, как бред, как тень, Но на скорбной нашей тризне загорится вечный день!
[Львова 1914, 91].
Исследователи уже отмечали очевидную спроецированность стихотворения «Нам лишь бледные намеки в хмурой жизни суждены…» на стихотворение Д. Мережковского «Дети ночи» (1894), предвещавшее приход нового символистского искусства [Зусева-Озкан 2021, 150]. Добавим к этому, что, создавая аллюзию на Мережковского, Львова тем самым опирается на мужской опыт продвижения нового направления в искусстве – создание поэтического манифеста, что было распространенной практикой в литературе модернизма. По сути Львова выступает с поэтическим манифестом женской лирики. Ее старший современник в своем программном стихотворении предрекал приход символизма в то время, когда он только зарождался и казался чем-то странным и немыслимым. Заимствуя сравнения и метафоры Мережковского, Львова провозглашает неизбежный триумф своих сестер в литературе, но констатирует, что сейчас он еще не состоялся и пока их удел печален.
Подведем промежуточные итоги. Мы рассмотрели стихотворения, в которых Львова еще не нарушает «красных линий» и конструирует достаточно традиционный образ женственности. Ее новаторство заключается в переписывании с женской точки зрения ряда известных лирических сюжетов, представленных в мужской лирике: любовный треугольник в ресторане, поединок возлюбленных, обращение к Музе. Смещение авторского взгляда на героиню и ее самоощущение, изменение расстановки акцентов делают эти произведения интересными с точки зрения гендерной проблематики. Самый большой шаг вперед Львова делает в стихотворении «Муза, ты снова со мною!», присваивая себе роль поэта, говорящего с Музой, и трактуя миф о попытке воскрешения Эвридики как метафору пробуждения собственных творческих сил и человеческой субъектности. Другие стихотворения, в которых Львова проблематизирует женское авторство и независимое самоценное существование, будут рассмотрены нами во второй статье.
Список литературы «Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья первая
- Анненский И. О современном лиризме // Критика русского символизма: в 2 т. Т. 2. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 267–369.
- Блок А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. Л.: Художественная литература, 1980. 472 с.
- Брюсов В. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1987. 575 с.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1973. 494 с.
- Гизетти А.А. Три души (Стихотворения Н. Львовой, А. Ахматовой, М. Моравской) // Ежемесячный журнал. 1915. № 12. С. 147–166.
- Зусева-Озкан В.Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма: образ, мотивы, сюжеты. М.: Индрик, 2021. 712 с.
- Карпачева Т.С. «Мой недопетый гимн весне»: жизнь и творчество Надежды Львовой. М.: Водолей, 2021. 508 с.
- Лёвберг М. «Любовью и мечтой играя…»: Лирика. Театр, Проза. М.: Водолей, 2022. 580 с.
- Ливен М. Франческа и Паоло // Сто одна поэтесса Серебряного века. Антология. СПб.: Деан, 2000. С. 127.
- Львова Н.Г. Старая сказка. М.: Альциона, 1914. 123 с.
- Покровская М.И. Франческа да Римини и Саломея // Женский вестник. 1908. № 12. С. 273–277.
- Свириденко С.А. Песнь валькирии // РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. № 748. Л. 1–2.
- Цзоу Л., Михайлова М.В. Феномен «подахматовок» (ахматовский дискурс в женской поэзии первой трети ХХ в.) // Studia Litterarum. 2021. Т. 6. № 4. С. 198–223.
- Эконен К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 400 с.