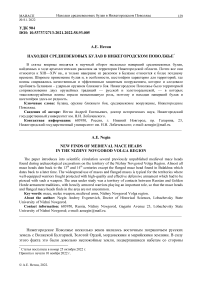Находки средневековых булав в Нижегородском Поволжье
Автор: Негин А.Е.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Военная история и археология
Статья в выпуске: S1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые вводятся в научный оборот несколько наверший средневековых булав, найденных в ходе археологических раскопок на территории Нижегородской области. Почти все они относятся к XIII-XIV вв., и только навершие из раскопок в Балахне относится к более позднему времени. Широкое применение булав и, в особенности, шестопёров характерно для территорий, где воины снаряжались качественным и эффективным защитным вооружением, которое и следовало пробивать булавами - ударным оружием ближнего боя. Нижегородское Поволжье было территорией соприкосновения двух оружейных традиций - русской и золотоордынской, - в которых тяжеловооружённые воины играли немаловажную роль, поэтому и находки наверший булав и шестопёров здесь не редкость.
Булава, оружие ближнего боя, средневековое вооружение, нижегородское поволжье
Короткий адрес: https://sciup.org/14126091
IDR: 14126091 | УДК: 904 | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.58.93.005
Текст научной статьи Находки средневековых булав в Нижегородском Поволжье
Нижегородское Поволжье несколько веков являлось восточным пограничьем русских земель с Волжской Булгарией, Золотой Ордой, мордовскими и марийскими землями. В силу этого факта это были довольно неспокойные земли, подвергавшиеся набегам со стороны
МАИАСП № S1. 2022
соседей. Тут же разворачивались события длительных феодальных войн 20—40 гг. XV в., когда Нижний Новгород неоднократно захватывал то один, то другой претендент на московский великокняжеский стол. Вплоть до Казанских походов Ивана Грозного на нижегородцев наводили ужас казанские татары, неоднократно вторгавшиеся в нижегородские пределы. Не обошли стороной Нижегородское Поволжье и события Смутного времени. Поэтому находки предметов вооружения на этой территории не являются редкостью. В нижегородских музеях хранятся предметы как наступательного, так и защитного вооружения, обнаруженные в разные годы.
В данной публикации в научный оборот вводится серия средневековых булав, которые по большей части ещё не становились объектом публикационного интереса исследователей1. Булава относится к ударному оружию ближнего боя, предназначенному для нанесения ударов раздробляющего действия. В ряде случаев богато орнаментированные булавы являлись символами власти, статусными предметами вооружения определённой прослойки воинов, занимавших командные должности. Но в целом, этим оружием пользовались и пешие и конные воины, вследствие чего оно нередко встречается среди археологического материала.
В ходе археологических раскопок на территории Нижегородской области было найдено несколько наверший булав2. Две из них происходят непосредственно с территории средневекового Нижнего Новгорода. В 2007 г. при охранном обследовании на строительной площадке на ул. Минина, 1 (раскопки Е.Э. Лебедевой) в поблизости от стен Нижегородского кремля было обнаружено бронзовое навершие булавы (рис. 1) (Гусева 2008), снабжённое 12 пирамидальными шипами (4 больших и 8 маленьких) (тип IV по классификации А.Н. Кирпичникова) (Кирпичников 1966: 52, рис. 10). Высота — 42 мм, ширина — 36 мм. Вес — 250 г. В настоящее время предмет экспонируется в музее Никольской башни Нижегородского кремля.
Сильно фрагментированное навершие медной булавы (рис. 2) было обнаружено и в ходе охранного археологического исследования Театральной площади на месте бывшей гостиницы «Москва» в 1997 г. (раскопки И.О. Ерёмина). В культурных слоях XIV—XVII вв. было обнаружено около 1 000 предметов, и среди них небольшой обломок булавы размером 30 × 40 мм. Сохранились два пирамидальных выступа, обрамленные каймой из маленьких шишечек, а также часть рельефно оформленной втулки. По расположению сохранившихся шипов можно предположить, что фрагмент относится к навершию с 12 шипами (4 больших и 8 маленьких) (тип IV по классификации А.Н. Кирпичникова). В числе остальных находок с Театральной площади навершие булавы было передано в музей Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, где и хранится в настоящее время.
В 2006 г. в ходе охранных раскопок на селище Копнино-1 в Богородском районе был найден довольно редкий экземпляр ударного оружия, который сочетает в себе булаву и
МАИАСП № S1. 2022
боевой молот-клевец (сейчас в НГИАМЗ, Инв. № ВСП 5691/27) (рис. 3). Сохранилось лишь полое бронзовое навершие (размеры 35 × 35 × 30 мм). Оно имеет четыре выступа, три из которых имеют вид четырехгранных пирамид (высотой по 10 мм), а четвертый — клювовидный граненый (его длина 27 мм), на верхней грани которого едва заметны следы зубчатой насечки. Основание каждого выступа оформлено в виде ромбовидного рельефного постамента. На верхней, частично утраченной, поверхности изделия просматриваются остатки сквозного отверстия диаметром 15 мм. Основание навершия почти полностью утрачено, из-за чего невозможно определить имелся ли вытянутый вниз втульчатый насад. Вес изделия 120 г. Оно изготовлено в двухсторонней литейной форме, о чём свидетельствует хорошо просматриваемый на внутренней поверхности продольный шов.
Известно несколько подобных изделий (рис. 4). Наиболее близким аналогом, судя по публикации Г.В. Баранова, является экземпляр из Винницкой области в Украине (Баранов 2018). Совпадение по размерам и декору с экземпляром из Копнино-1 практически полное. Этот факт позволил Г.В. Баранову предположить, что оба этих экземпляра происходят из одной и той же мастерской в Византии. Попадание из Византии на территорию Украины и в Поволжье автор связывает с поставками византийского вооружения в Золотую Орду (Баранов 2018: 262).
А.Н. Кирпичников в своей классификации выделил подобные навершия в отдельный подтип IIа, датировав их домонгольским временем (Кирпичников 1966: 48). Отличительной особенностью экземпляров из Изяславля (Кирпичников 1966: 48, табл. XXV: 4 ) и Великого Новгорода (Кирпичников, Гайдуков 1997) является их довольно грубый внешний вид; они изготовлены в виде обыкновенного ничем не украшенного металлического бруса с загибающимся книзу «отростком» на одной из сторон. Находка же на селище Копнино-1 и её аналог из Винницкой области демонстрируют совершенно иной уровень мастерства оружейника, изготовившего эстетически привлекательный образец. Невзрачный «отросток» изделий, найденных на территории древнерусских городов, на этих экземплярах эволюционировал в изящный и грозный «клюв», а брус навершия оформлен рельефно декорированным пирамидальным декором. Да и датировка «домонгольских» булав и экземпляров из Копнино-1 и Винницкой области разная. По вскрытым слоям и найденным предметам селище Копнино-1 может быть датировано, как и большинство средневековых селищ в округе Нижнего Новгорода XIV в., т.е. относится к золотоордынскому периоду.
Клювовидный отросток может свидетельствовать о локальной направленности травмирующего удара, чем достигалась его целевая заданность, с расчетом на наибольший эффект при относительно небольшом весе оружия. Поражающего воздействия, при наличии этой детали, хватало не только на то, чтобы оглушить противника, нанеся удар в область головы, но и для нанесения более серьезного проникающего ранения, поскольку остроконечный выступ отчасти компенсировал малый вес изделия (которое, к тому же, могло заливаться свинцом). Благодаря этой своей функции булавы-клевцы напоминают «молоты с клювом сокола» XV в., применявшиеся для дробления тяжелого защитного доспеха (Бехайм 1995: 262—264).
Как я уже отмечал в публикации булавы-клевца из Копнино-1 (Негин 2008), клювовидный выступ мог служить для подвешивания булавы или удобного ношения её в руке. В этом случае такой выступ мог быть особенно полезен при ношении булавы за поясом. Также можно предположить ношение булав в специальных кожаных футлярах при подвешивании к седлу, при этом клювовидный отросток также мог служить своеобразным крючком, который дополнительно удерживал булаву в футляре. Также и рукояти конских плёток того же периода иногда были оформлены подобным клювовидным отростком, что
МАИАСП № S1. 2022
также позволяет оправдывать его наличие сугубо функциональной задачей для большего удобства их подвешивания к чему либо (Фёдоров-Давыдов 1966: 22, рис. 3; Плетнева 1973: табл. 18: 12 ; Кызласов1983: табл. XXXV: 9 ). При этом довольно маленькие размеры и вес навершия из погребения в поселении Вишневое (Дрёмов 1985) могут свидетельствовать в пользу того, что данное изделие являлось как раз деталью рукояти плетки, а не навершием булавы (Негин 2008: 64—66, рис. 2: 5 ).
Следующую разновидность булав, найденных на территории Нижегородской области, представляют находки шестопёров — булав к навершиям которых приварено несколько вертикально расположенных пластин—лопастей, направленных в разные стороны3. Помимо термина «шестопёр» в русской традиции такую булаву называют также «перначом» (Даль 1955: 631; Словарь 1988: 308). При этом, название «пернач» употребляется к булаве, к головке которой прилито несколько (до двух десятков) металлических пластин (перьев), а «шестопёр», как следует из самого слова, должен был иметь всего шесть «перьев». Временем распространения этой разновидности булавы можно считать XIII—XIV вв., хотя, по мнению некоторых исследователей, ранние образцы бронзовых перначей появляются на территории Волжской Булгарии уже в домонгольский период, т.е. на рубеже XII—XIII вв. Эти перначи, также известные в литературе как восьмипёрые булавы, имели полую цилиндрическую втульчатую часть, которая закреплялась на рукояти при помощи шипа. Но распространение перначей в восточно-европейских районах, по-видимому, все же было связано с появлением там монголов, хотя единодушного мнения по этому вопросу нет (Горелик 2002; 2008: 168; Нарожный, Чахкиев 2003; Галкин 2007; Воронцов 2011: 61—62; Кушкумбаев 2012).
К настоящему времени известно 18 перначей (шестопёров) золотоордынской эпохи, обнаруженных на Северном Кавказе (Дружинина 2017). Большинство образцов происходят из случайных сборов и не привязаны к конкретным археологическим комплексам. На остальной территории Золотой Орды найдено ещё 11 экз. Известно, что перначами были вооружены кэшигтен — ханские гвардейцы (Дружинина, Чхаидзе 2020: 220.). Наиболее вероятным представляется поступление шестопёров к монголам из Хулагуидского Ирана, где традиция изготовления данного вида булав подтверждается и археологическими находками, и изобразительными источниками (Нарожный, Чахкиев 2003: 137).
При исследовании погребений Сарлейского могильника было обнаружено железное фрагментированное навершие шестопёра (рис. 5). Оно было найдено в фондах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (Инв. № ГОМ 4047/64) при разборе мешков с материалами раскопок, переданных в музей С.М. Парийским и Е. И. Горюновой. По-видимому, материалы относятся к раскопкам 1925— 1926 гг., но более точно установить это не представляется возможным из-за отсутствия сдаточной документации. Навершие шестопёра изготовлено из железа, высота 95 мм, ширина в самой широкой части — 55 мм. Сохранилась лишь половина навершия с четырьмя перьями, внутри остатки древесины от деревянного насада.
Сарлейский могильник находится у с. Сарлей Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Погребения терюшевской мордвы в этом месте совершались довольно длительное время, и датируются XIII—XVIII вв. Однако некоторые погребения Сарлейского могильника являются подкурганными погребениями, которые по совокупности признаков можно отнести к захоронениям отюреченного населения донецких степей, что, по-
МАИАСП № S1. 2022
видимому, является свидетельством инкорпорации отдельных половецких переселенцев в местную мордовскую среду (Алихова 1959: 34; Аникин, 2000: 67—70; Грибов 2020: 26). Учитывая то, что в целом булавы и шестопёры нехарактерны для вооружения мордвы (Святкин 2001: 89)4, шестопёр из Сарлейского могильника может являться подтверждением этому предположению.
В ходе археологических исследований в г. Балахна было найдено навершие ещё одной булавы, а точнее пернача, представляющее собой отлитое бронзовое изделие с 16 «перьями» (рис. 6). Размеры: высота — 75мм, ширина в широкой части — 65, а ширина втулки — 33 мм. Среди археологического материала удалось обнаружить сходные по оформлению фигурные перья, снабжённые насечками в верхней, центральной и нижней части. Это два экземпляра золотоордынского времени (которые датируются XIII—XIV вв.) с территории Украины (с. Хмельная) (Кирпичников 2000: 232, рис. 1: 6 ) и Северного Кавказа (гор. Маджары) (Нарожный, Чахкиев 2003: 127). Однако в отличие от пернача из Балахны у всех золотоордынских булав гораздо меньшее количество перьев — обычно 6, 7 или 8. Булавы же с бо́льшим количеством перьев (от 12 до 20) относятся к более позднему времени и датируются концом XV—XVII вв. Таким образом, вряд ли можно датировать находку из Балахны XIII—XIV вв. По мнению оружиеведов, широкое распространение на территории Руси и на степных просторах Восточной Европы пернач получил в XVI в. Примерно тогда же пернач получает развитие на территории Центральной и Западной Европы (Grancsay 1938; Кирпичников 1966, 54—55; Kalmár 1971: 21, 24, kép. 16).
К сожалению, среди археологического материала, привязанного к конкретным археологическим комплексам, не удалось обнаружить точной аналогии балахнинской находки, которая бы соответствовала и по количеству перьев, и по их форме. Вследствие этого уточнение датировки данного экземпляра невозможно. Можно лишь утверждать, что экземпляр принадлежит к разновидности перначей XV—XVII вв., широко распространившихся на больших территориях от Османской империи и до Западной Европы (Рябовянов 2010: 190—191, 194, обр. 7—10). Вместе с тем следует отметить, что в отличие от железных экземпляров этого времени, данная находка изготовлена из бронзы, что может свидетельствовать о том, что она принадлежит к наиболее ранним образцам этого типа, появившимся на рубеже XV—XVI вв. Можно с осторожностью предположить, что утеря навершия пернача могла быть связана с набегом казанских татар на Балахну в 1536 г. (что как нельзя лучше соотносится с ранней датировкой появления перначей), хотя нельзя исключать и события Смутного времени.
Подводя итог можно сказать, что большинство из публикуемых булав относятся к XIII— XIV вв. Именно в слоях этого времени и были обнаружены экземпляры из Нижнего Новгорода. Этим же временем можно датировать и селище Копнино-1. Основная часть материалов из Сарлейского могильника также укладывается во временные рамки XIII—XIV вв., поэтому и навершие шестопёра из раскопок этого могильника также можно отнести к XIVв.
По замечанию А.Н. Кирпичникова, использование булав-шестопёров является показателем массового применения защитного вооружения (Кирпичников 2000: 232). Следовательно, широкое применение булав и, в особенности, шестопёров должно свидетельствовать о качественном и эффективном защитном вооружении, которое использовалось воинами, поэтому такие находки и характерны для территорий, на которых воевали хорошо экипированные воины.
МАИАСП № S1. 2022
Если среди мордовского (и финно-угорского) вооружения встречается немного доспехов, значит, вполне закономерны будут и более редкие находки булав и шестопёров. В противоположность этому на территориях, где прослеживается массовое применение доспеха, будь то русские княжества или золотоордынские земли, широко применялось и ударное оружие раздробляющего действия, снабжённое специальными шипами или пластинами-лопастями, способными эффективно пробивать защитный доспех. Нижегородское Поволжье являлось как раз таким регионом, где встречались и взаимодействовали друг с другом две ружейные традиции — русская и золотоордынская.
Список литературы Находки средневековых булав в Нижегородском Поволжье
- Алихова А.Е. 1959. К истории мордвы конца 1-го - начала 2-го тысячелетия н.э. B: Алихова А.Е., Жиганов М.Ф., Степанов П.Д. (ред.). Из древней и средневековой истории мордовского народа: Археологический сборник. Т. 2. Саранск: Мордовское книжное издательство, 13—54.
- Аникин И.С. 2000. Об этнической принадлежности курганных погребений средневековой мордвы (по материалам Сарлейского могильника). В: Гришаков В.В. (отв. ред.). Поволжские финны и их соседи в эпоху средневековья (проблемы хронологии и этнической истории): Тезисы докладов Всероссийской научной конференции 2—3 февраля 2000 г. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт, 67—70. Баранов Г.В. 2018. Навершие булавы с клювовидным выступом с территории Винницкой области.
- МАИАСП 10, 259—265. Беговаткин А.А. 2011. Две уникальные булавы XII—XIV вв. из Мордовии. РА 2, 156—162. Бехайм В. 1995. Энциклопедия оружия. Санкт Петербург: Оркестр.
- Воронцов И.А. 2011. Предметы ударного вооружения золотоордынского времени с территории Нижнего Поволжья. В: Миргалеев И.М. (отв. ред.). Военное дело Золотой Орды: проблемы и перспективы изучения. Материалы круглого стола, проведённого в рамках Международного Золотоордынского Форума, (Казань, 29—30 марта 2011 г.). Казань: ИИ АН РТ, 59—62.
- Галкин Л.Л. 2007. Две булавы из городов Улуса Джучи (XIV) в. В: Гилязов И.А., Измайлов И.Л. (ред.). История и культура Улуса Джучи: Бертольд Шпулер. «Золотая Орда»: традиции изучения и современность. Казань: Фэн, 288—292.
- Горелик М.В. 2002. Армии монголо-татарX—XIVвв. Москва: ООО «Восточный горизонт».
- Горелик М.В. 2008. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным). Вестник Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦРАН. Вып. 15, 158—189.
- Грибов Н.Н. 2020. Русские и мордва в XIII—XV вв.: расселенческий аспект взаимодействия (по археологическим данным). Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 4, 23—34.
- Гусева Т.В. 2008. Мужская «забава». Дамская «штучка». Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков — архивистов). URL: http://opentextnn.ru/history/ archaeology/museum/?id=2456 (дата обращения 17.09.2021).
- Даль В.В. 1955. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
- Дрёмов И.И. 1985. Раскопки поселения Вишневое в г. Саратов. АО 1983 года, 145.
- Дружинина И.А. 2017. Шестопёр из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В.Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.). Археология евразийских степей 5. Военная археология: древнее и средневековое вооружение Евразии, 99—107.
- Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н. 2020. Шестопёр из аланского святилища Реком. В: Рукавишникова И.В., Радюш О.А. (отв. ред.). Древние памятники, культуры и прогресс. A caelo usque ad centrum. A potentia ad actum. Ad honores. Москва: ИА РАН, 212—225.
- Измайлов И.Л. 1997. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X — начала XIII в. Казань; Магадан: СВНЦ ДВО РАН.
- Измайлов И.Л. 2008. Защитники «Стены Искандера». Казань: Татарское книжное издательство.
- Кирпичников А.Н. 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX—XIII вв. Москва: Наука (САИ Е1-36).
- Кирпичников А.Н., Гайдуков П.Г. 1997. Булава-«клевец» из раскопок в Новгороде. Новгород и Новгородская земля. История и археология 11, 186—187.
- Кирпичников А.Н. 2000. Булавы и кистени из коллекции И. Хойновского в собрании музея Войска Польского. АВ 7, 229—235.
- Кушкумбаев А.К. 2012. Комплекс ударного оружия (палицы, булавы, кистени) воинов Улуса Джучи. В: Кушкумбаев А.К. (отв. ред.). Военное дело Улуса Джучи и его наследников. Астана: Фолиант, 199—219.
- Кызласов И.Л. 1983. Аскизская культура Южной Сибири X—XIVвв. Москва: Наука.
- Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю. 2003. О находках некоторых образцов ударного и защитного вооружения на Северном Кавказе (XIII—XV вв.). Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа 2, 126—153.
- Негин А.Е. 2008. Навершие булавы-клевца с селища Копнино-1. В: Молев Е.А. (отв. ред.). Нижегородские исследования по краеведению и археологии: сборник научных и методических статей. Вып. 11. Нижний Новгород: Нижегородский университет, 64—68.
- Плетнева С.А. 1973. Древности Черных Клобуков. Москва: Наука (САИ Е1-19).
- Рабовянов Д. 2010. Средновековни боздугани от фонда на Регионален исторически музей — Велико Търново. Известия на Регионален исторически музей Велико Търново ХХ—XXV, 187—199.
- Святкин С.В. 2001. Вооружение и военное дело мордовских племен в первой половине II тыс. н.э. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт.
- Словарь 1988: Шмелев Д.Н. (ред.). Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 14. Отрава—Персоня. Москва: Наука.
- Фёдоров-Давыдов Г.А. 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Москва: Московский университет.
- Grancsay St. 1938. A gift of enriched military maces. Bulletin of the Metropolitan Museum of Art XXXIII, 37—39.
- Kalmâr J. 1971. Régi magyar fegyverek. Budapest: Natura.