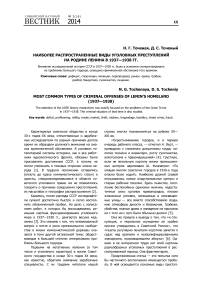Наиболее распространенные виды уголовных преступлений на родине Ленина в 1937-1938 гг.
Автор: Точеная Н.Г., Точеный Д.С.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
Внимание исследователей истории СССР в 1937-1938 гг. было в основном сконцентрировано на проблемах Большого террора, освещена криминальная обстановка того времени.
Дефицит, спекуляция, милиция, перепродажа, рынок, кража, грабеж, разбой, бандитизм, хулиганство, хищение
Короткий адрес: https://sciup.org/14113910
IDR: 14113910
Текст научной статьи Наиболее распространенные виды уголовных преступлений на родине Ленина в 1937-1938 гг.
Характеризуя советское общество в конце 30-х годов XX века, отечественные и зарубежные исследователи по разным причинам долгое время не обращали должного внимания на анализ криминогенной обстановки. В условиях тоталитарной системы историки, как и все работники идеологического фронта, обязаны были прославлять достижения СССР, а потому не могли упоминать о теневых сторонах жизни народа [1]. В трудном положении оставались (вплоть до краха коммунистического строя) и юристы, специализировавшиеся в области советского уголовного права: им не позволялось говорить о причинах совершения преступлений, их масштабах и географии распространения [2].
Казалось, после распада СССР исследователи сумеют достаточно быстро и легко восполнить обозначенный пробел. Но дело с написанием работ, в которых бы воссоздавалась реальная картина функционирования уголовного мира в 1937—1938 гг., двигается весьма медленно [3]. Это связано с тем, что немаловажный вопрос о месте и роли криминального сообщества в жизни коммунистической державы оказался в тени другой актуальной темы: обществоведов в большей степени интересовали проблемы Большого террора.
Первыми на негативные явления (в том числе и уголовного характера) в жизни Советского государства в конце 30-х годов XX века, как известно, обратили внимание зарубежные специалисты. С их трудами читатели нашей страны смогли познакомиться на рубеже XX— XXI вв.
«Окрестьянивание городов, и в первую очередь рабочего класса, — отметил Н. Верт, — приводило к снижению дисциплины труда, поломке техники и инвентаря, росту хулиганства, алкоголизма и правонарушений» [4]. Грустную, если не печальную картину жизни промышленных центров нарисовала Ш. Фицпатрик: «По улицам многих советских городов в 1930-е годы опасно было ходить. Наиболее дурной славой пользовались новые индустриальные центры и старые рабочие поселки. Здесь пьянство, скопление беспокойных одиноких мужчин, недостаточные силы органов правопорядка, плохие жизненные условия, немощеные и неосвещенные улицы — все вместе способствовало созданию атмосферы дикости и беззакония. Грабежи, убийства, пьяные драки и нападения на прохожих ни с того ни с сего были обычным делом» [5].
Она же пришла к выводу о том, что «и спекуляция, и моральное осуждение ее крайне прочно утвердились в Советской России», что «газеты регулярно печатали короткие заметки о судах над врачами и неквалифицированными знахарками, производившими аборты» [6]. Однако в ее интересном труде нет всей картины разнообразных уголовных преступлений в рассматриваемый период. Она фрагментарна.
Представленная статья — это попытка хотя бы частичного восполнения имеющегося пробела. В ней освещаются основные виды преступ- лений в Ульяновске. Сведения взяты исключительно из материалов «Пролетарского пути» — органа горкома ВКП(б) и горсовета, выходившего на родине В. И. Ленина в 30-х годах XX века. Конечно, его публикации на уголовные темы были далеко не образцом объективности. Но в том, что они являются до известной степени зеркалом жизни криминального мира СССР, сомневаться не приходится.
Обратим также внимание на то, что поставленная тема не нашла освещения в работах ульяновских историков и юристов [7].
Известный литературовед Б. Сарнов обладает редким даром умения популярно, юмористически, даже саркастически, но вместе с тем точно и объективно рассказать о событиях прошлого. Вот как он повествует об одном изъяне советской торговли: «Дефицит («дюфсит», как произносил это слово любимый персонаж Аркадия Райкина) — это значило трудно доставаемый товар. Чаще даже — товар, добытый не совсем обычным, обходным, сложным, а иногда и не вполне законным путем (по блату, из-под прилавка, «я — тебе, ты — мне»). Этот самый «дюфсит» в советские времена был не каким-нибудь там эпизодическим явлением, а, как выразился однажды — совсем, правда, по другому поводу — наш вождь, отец и учитель, постоянно действующим фактором. Постоянным-то постоянным, но в то же время не стоящим на месте, развивающимся. То есть по мере дальнейшего — поступательного, как тогда говорили, — движения советского общества к сияющим вершинам товаров становилось все меньше, а «дюфсита» все больше… Такое уродливое положение вещей уже мало кому представлялось нормальным. Оно стало нормой» [8]. Сплошь и рядом у советского человека оставался один вариант выхода из вечных тисков беспросветного дефицита — «приобретение нужного товара у спекулянта за немалые деньги» [9]. Но и такой путь купли крайне необходимой вещи не был простым и легким: эту личность, занимающуюся «скупкой и перепродажей имущества, ценностей, продуктов широкого потребления и т. п. с целью наживы» [10], еще надо было найти.
Одной из главных задач ВЧК с августа 1918 года стала борьба со спекулянтами [11]. Их заключали в тюрьмы, беспощадно расстреливали. В период торжества новой экономической политики репрессивный аппарат ослабил давление на спекулянтов. Но так продолжалось недолго. В конце первой пятилетки ВПК(б) взяла курс на ликвидацию частной коммерции. Важную роль стала играть государственная торговля, неиз- бежным спутником которой всегда является всеохватывающий дефицит товаров, ведущий, в свою очередь, к росту спекуляции. Правящая партия вновь взяла в свои руки карающий меч.
22 августа 1932 года ЦИК и СНК СССР издали постановления, согласно которым обязали Объединенное государственное политическое управление, органы прокуратуры и местные органы власти принимать такую меру по отношению к спекулянтам и перекупщикам, как заключение в концентрационный лагерь сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии [12]. Эта норма действовала вплоть до издания нового Уголовного кодекса в 1960 году. Пострадавших по всей стране (и в Ульяновске тоже) по обвинению в спекуляции было более чем достаточно. Она стала самым распространенным видом преступлений. О них систематически сообщала советская печать.
Наиболее удобным центром скупки дефицитных товаров для дальнейшей перепродажи стала столица СССР. 28 февраля 1937 года «Пролетарский путь» информировал своих читателей о том, что «задержана и привлекается к судебной ответственности М. Г. Панкова, проездной сторож станции Ульяновск I. Она систематически спекулировала привозимой ею из Москвы мануфактурой. При обыске у нее на квартире было обнаружено 83 метра материалов и 33 пары чулок».
В июне 1937 года работники уголовного розыска арестовали членов кустарной артели «Утильсырье» И. И. Шокина и А. О. Вовина с большим количеством промышленных товаров, преимущественно трикотажем. За ними они ездили в Москву по специальным командировкам председателя артели Арфова. Закупая товары якобы для стимулирования заготовки утильсырья, скупщики сбывали их по спекулятивным ценам [13].
Чаще всего купленные вещи из Москвы доставлялись на «своем горбу», но это было, во-первых, дорого, а во-вторых, большой груз (мешки, сумки, корзины) привлекал внимание милиционеров. Об ином способе доставки дефицитных вещей рассказал «Пролетарский путь»: «Валентина Неверова имеет сестру в столице. На основе родственных чувств между ними возник обмен почтовыми отправлениями. Неверова посылала в Москву деньги, а сестра отправляла ей регулярно посылки с разными дефицитными товарами, главным образом с трикотажем. Призвав себе на помощь родственницу Наталью Журавлеву, Неверова начала сбывать промтовары по повышенным ценам. Но много она продать не успела, так как была задержана милицией» [14].
География закупок дефицитных товаров ульяновскими спекулянтами была достаточно широкой: от Москвы до самых отдаленных от нее городов. К. Н. Спиридонова, имевшая большой стаж разъездной работы по части перепродажи нужных населению вещей, «за последние пять лет неоднократно посещала, помимо столицы, Ленинград, Челябинск, Ташкент, Астрахань, Брест. В протоколе обыска ее квартиры милиционеры отметили, что только своим квартирантам она продала в начале 1938 года разных товаров на сумму 1188 рублей. А также у нее обнаружили 133 метра мануфактуры, 107 катушек ниток, галоши и т. д.» [15].
С еще большим размахом действовала группа спекулянтов под руководством бывшего кулака С. С. Барабанщикова. В нее, поведал «Пролетарский путь», входили еще пять человек: Е. С. Осипова, А. А. Федорова, Т. А. Старостина, Т. Д. Поспелов, С. Н. Русов. Они колесили по Москве, Ленинграду, средневолжским и сибирским городам, «скупали там промтовары и сбывали в Ульяновске. В Баку отправляли скот. В декабре 1937 года Барабанщиков и его жена (Осипова) за один день купили в Ленинграде промтоваров на 10 тысяч рублей. Спекулянты Барабанщиков, Осипова и Федорова арестованы, остальные успели скрыться. Приняты меры к их розыску» [16].
Ленинград нравился многим ульяновским спекулянтам: конечно, там наблюдались весьма приличные очереди за дефицитными товарами, но все-таки они там были поменьше, нежели в столице. Характеристику одному из таких «коммерсантов», курсировавших по маршруту «родина Ленина — Северная Пальмира», дал «Пролетарский путь»: «Г. Юрлов не имел склонности к работе и предпочитал источники легкой наживы. Сначала он решил попытать свое «искусство» в конокрадстве, но в 1934 году народный суд приговорил его к трем годам тюремного заключения. Отбыв срок наказания, Юрлов занялся спекуляцией. 26 ноября 1937 года он добыл поддельную справку о том, что является колхозником Анненковского колхоза им. Московского электрозавода и едет в Ленинград за промтоварами. В действительности такого колхоза в районе не было. Его задержали на ульяновском базаре с промтоварами. На квартире Г. Юрлова оказалось 77,5 метров разной мануфактуры, 5 пар разного размера галош, 5 мужских новых брюк, 47 катушек ниток и ряд других промтоваров. За подделку документов и спекуляцию народный суд 2 участка приговорил Юрлова к 5 годам тюремного заключения с поражением в правах за 3 года после отбытия наказания» [17].
Разумеется, в Ульяновске было немало спекулянтов районного масштаба, то есть не выезжавших за границы родины Ленина. Размеры доходов у них уступали прибылям тех, кто совершал челночные рейсы в крупные промышленные центры страны. «Пролетарский путь» неоднократно писал о таких более мелких мошенниках. Их разоблачали быстрее, поскольку за ними следила не только милиция, но они еще находились в поле зрения десятков, а то и сотен местных жителей.
Типичным образцом спекулянта с ограниченной территорией действия был А. П. Дементьев. Он, по сообщению корреспондента печатного органа ульяновских коммунистов М. Рена, «числился рабочим на винзаводе № 2. Но основным его занятием являлась купля-перепродажа. Схема спекуляций у него не отличалась особой сложностью. Летом, после сбора урожая, он скупал по дешевой цене муку, а весной продавал ее по очень высокой цене. В прошлом году А. П. Дементьев закупил несколько десятков пудов муки. Но так как в Ульяновске ему спекульнуть не удалось, он разъезжал по селам района и там продавал свой товар. В Анненкове, Грязнухе и других селах муку продавала его мать. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы» [18]. Столь же печальной оказалась судьба ответисполнителя завода им. Володарского С. И. Елкина, «который закупал в магазинах Ульяновского горторга разные дефицитные товары (дамские туфли, сукна, мануфактуру). Эти вещи он сбывал отдельным гражданам по спекулятивным ценам. Приобретая дамские туфли в магазинах по 50 рублей 30 копеек, С. И. Елкин продавал их по 75—90 рублей. Работники 3-го отделения милиции задержали его» [19].
Массовый характер приобрела на родине Ленина спекуляция керосином, снабжение которым было поставлено, как писали рабочие корреспонденты Н. Соколова и М. Баишев, «из рук вон плохо» [20]. Во-первых, перепродажей его занимались сотрудники городского коммунального отдела, которые получали это сверхдефицитное топливо в неограниченном количестве. Во-вторых, у магазинов и лавок с раннего утра и до позднего вечера (а нередко и ночами) стояли в громадных очередях мелкие спекулянты, которые, купив керосин, тут же продавали его с немалой наценкой.
Некоторые жители Ульяновска и близлежащих сел пробовали сочетать элементарную куплю-перепродажу с предпринимательством. В социалистических условиях развернуть свой бизнес (разумеется, подпольный) было очень трудно. И всегда такие попытки кончались крахом для самых изобретательных «бизнесменов». «На днях, — довел до сведения своих читателей «Пролетарский путь», — работниками Ульяновской городской милиции вскрыта группа спекулянтов, в которую входили Е. Г. Гусева, Н. К. По-ловова, А. И. Яровая и Е. В. Китаева — все без определенных занятий. Они часто выезжали в Москву и Ленинград, где закупали большие партии промтоваров и направляли их посылками в Ульяновск на чужие фамилии. Для того чтобы отвлечь подозрения, Половова и Китаева выезжали встречать Гусеву с промтоварами на станцию Инза, откуда их посылали в Ульяновск посылками, и часть товаров привозили с собою. Промтовары спекулянтки сбывали в Ульяновске и районе. Мануфактуру они обычно перешивали и продавали готовым платьем. Для оборотов Гусева брала у сообщников взаимообразно деньги и возвращала их с 50-процентным накоплением. При обыске на квартирах спекулянток обнаружены и изъяты промтовары. Е. Г. Гусева, Н. К. Половова, Е. В. Китаева, А. И. Яровая привлекаются за спекуляцию к уголовной ответственности» [21].
Несостоятельными дельцами оказались единоличник Больше-Ключищенского сельсовета П. Зуев и его сестра А. Дубова. Вернее, у них проявились недюжинные способности в области предпринимательства, но выстоять в борьбе с милицией они не смогли. Силы были неравными. «Пролетарский путь» поведал с долей злорадства о крахе «преступной фирмы»: «Закупая большие партии конского волоса, Зуев заготавливал сотни щеток, упаковывал их, а сестра развозила их по городам и станциям. Главным рынком у спекулянтов был Челябинск. Здесь они завели надлежащее знакомство и сбывали большую часть продукции. Понятно, что их задержали. Разобрав дело показательным процессом, суд приговорил Зуева и Дубову к пяти годам лишения свободы» [22].
Нередко на путь преступной перепродажи товаров вставали торговые работники, являвшиеся автоматически обладателями дефицитных товаров. Этой теме в «Пролетарском пути» была посвящена целая серия заметок. Одна из них называлась «Спекулянт за прилавком»: «Работая заведующим магазином № 1 водтор-гпита, А. С. Рождественский систематически та- щил мануфактуру и передавал сестре своей жены А. П. Зинаковой, которая сбывала ее на рынке по спекулятивным ценам. В этих операциях Рождественскому содействовала его жена, работавшая в магазине продавцом. В середине января сего года А. П. Зинакову задержали около промтоварного рынка, где она пыталась продать 25 метров мануфактуры. При обыске на квартире у нее обнаружили еще 25 метров. А в доме Рождественского нашли 250 метров разной мануфактуры. Все трое привлекаются к судебной ответственности» [23].
Однако никакие жестокие меры не могли искоренить спекуляции: ее подпитывал ежедневно и ежечасно беспросветный дефицит на абсолютно все товары. Борьба с ней была похожа на сражение богатыря со сказочным змеем, у которого на месте отрубленных голов тут же вырастали новые. К тому же спекулянты, приспосабливаясь к суровым условиям контроля и репрессий со стороны власти, подкупали некоторых чиновников и милиционеров. На существование в их среде элементов взяточничества намекнул фельетонист Л. Всеволодов, описывая порядки, сложившиеся на ульяновском «толкучем» рынке, то есть территории, где разрешалось продавать только подержанные вещи: «Попробуем совершить прогулку по этому бойкому месту. Увы, отсутствие порядка там только способствует спекуляции.
Недавно в магазинах госторговли продавались детские одеяльца по цене 27 руб. 55 коп. за штуку. На «толкучем» рынке за них запрашивают 120 руб. Почти 400 процентов наценки только за то, чтобы, купив одеяло в магазине, его отнести на базар!
Почтенная старушка требует за ботинки, изрядно поношенные, 175 руб. А цена таким же новым ботинкам в мастерской индивидуального пошива 73 руб. Спекуляция!
Мы наблюдаем, как некая гражданка, продав пару валенок, якобы собственных, через несколько минут возвращается на базар с новой парой. Адресуемся по этому поводу в дирекцию рынка. Заведующая промтоварной группой тов. Скобелева удивленно поднимает брови:
— Спекуляция? У нас?
Просим тов. Скобелеву оторваться на несколько минут от стола и нырнуть в базарную гущу. На руках у женщины пара ботинок фабрики «Скороход».
— Сколько?
— 120, — следует короткий ответ.
Тов. Скобелева открывает прейскурант. Эти же ботинки стоят по отпускной цене
32 руб. 50 коп., в коммерческой продаже — 65 руб. Выясняется, что эта женщина — жена железнодорожника — купила эти ботинки в железнодорожном магазине и принесла на рынок. Записав адрес гражданки, ее отпустили, посоветовав не превышать государственной цены.
У нас существуют специальные скупочные магазины, но туда жители Ульяновска вещи не несут, потому что там делается правильная точная оценка. Конечно, не все граждане, продающие вещи на «толкучке», спекулянты. Но, видя полное отсутствие надзора со стороны дирекции рынка, большинство запрашивают втридорога. А ведь по ценам, складывающимся на базаре, могут продаваться только продукты питания. Да, в стороне от «толкучего» рынка стоит и милиция, и работники городского внутреннего торга. Здесь предпочитают «отческие» внушения, а не действительную, большевистскую борьбу со спекуляцией» [24].
Однако на фельетон Л. Всеволодова ни горком ВКП(б), ни горсовет внимания не обратили. Естественно, что и дирекция «толкучего» рынка его «не заметила». Редакцию «Пролетарского пути» это возмутило. Важную роль сыграло и то обстоятельство, что о «толкучем» рынке как рассаднике спекуляции заговорили рядовые коммунисты. Они выразили недоумение на партийных собраниях заводов им. Володарского и «Металлист» тем, что на фельетон Л. Всеволодова не откликнулись руководители города Ульяновска. Секретарь горкома ВКП(б) рекомендовал редакции «Пролетарского пути» подготовить серьезную статью о преступном бездействии городского отдела внутренней торговли.
18 декабря 1938 года газета опубликовала обширный репортаж И. Полтавцева под характерным названием «Спекулянты маскируются». Вот о чем в нем шла речь: «Пустота в скупочном магазине «Горторга». На полках нет ни одной вещи, не видно ни одного посетителя. Зато оживленно и шумно на так называемом «толкучем» рынке. Вот гражданка, держащая с таинственным видом пару галош. Что вы, она их не продает. Она вообще первый раз попала на рынок. Она только «меняет». Правда, эта «мена» обходится меняющему в круглую толику денег, так как обладательница галош требует за «труды» приплату.
Вот гражданин — обладатель байкового одеяла. Что из того, что в государственном магазине оно стоит 24 рубля? За него он запрашивает сто рублей.
Чем объяснить то обстоятельство, что продавцы вещей не несут их в государственный скупочный магазин? Исключительно тем, что из-за попустительства базарного комитета поощряется спекуляция. Человек приходит, платит 20 копеек за право продажи вещи и дерет за нее такую цену, какую ему вздумается.
Работники базарного комитета не квалифицированы. Среди них нет опытного товароведа, который мог бы определить настоящую цену вещи. Базарный комитет не связан с торгующими организациями, и поэтому вещи, которые сегодня продаются в государственных магазинах, завтра поступают на рынок, и за них берут втридорога. А если бы работники базарного комитета знали, что такие-то товары продавались накануне, то они легко бы могли разоблачить спекулянтов.
У продающего валенки одна пара на руках, но стоит ему продать ее, как через несколько минут он появляется со второй парой. Оказывается, что за забором рынка его поджидает сообщница, у которой припрятано несколько пар валенок.
Иногда происходят такие вещи. На руках спекулянт имеет две пары обуви — одну старую, другую новую. За новую он дерет бешеную цену. Но стоит появиться работнику базарного комитета (а их великолепно знают в лицо), как новая обувь прячется и на сцену выступает старая.
Есть спекулянты, лица которых примелькались работникам базарного комитета. За ними надо следить, их надо удалить с рынка, но этого никто не делает. Городской отдел торговли упустил рынок из поля своего зрения. А он требует пристального внимания, решительной борьбы со спекулянтами, умения раскрывать их маскировку».
Вскоре — через 9 дней после публикации репортажа И. Полтавцева — руководители городского отдела торговли оповестили читателей «Пролетарского пути» о том, что они приняли меры по борьбе со спекулянтами: «Управление рынками направило 20 декабря 1938 года на «Толкучку» двух контролеров, которые будут устанавливать цены на новые вещи, купленные в магазинах. Виновные в превышении цен будут привлекаться к ответственности» [25].
В дальнейшем сражения со спекулянтами в Ульяновске шли с переменным успехом. Дефицит в стране Советов был вечным и исчез только тогда, когда социалистическая система уступила место капиталистической. Скупка-перепродажа по любым ценам перестала считаться преступной. А сколько человеческих судеб было сломано за время существования тоталитарной системы в СССР!
Острый дефицит практически всех товаров и низкий уровень материального обеспечения трудящихся способствовали также широкому распространению различных видов уголовных преступлений против личной собственности.
Жителей современной России удивит отсутствие фантазии и мелочность интересов воровской братии во второй половине 30-х годов XX века. В значительной степени такой стиль «работы» любителей чужого имущества (заметная ограниченность аппетитов) определялся бедностью большинства населения страны: тащить порой было просто нечего. Криминальная хроника «Пролетарского пути» со всей очевидностью подтверждает этот тезис.
В начале января 1937 года «милиция задержала А. А. Афанасьева. Он совершил кражу галош и ботинок в квартире гражданки Е. М. Сорокиной (ул. Карла Маркса, № 41). Похищенные вещи возвращены потерпевшей. Преступник привлечен к уголовной ответственности» [26]. 4 февраля 1937 года рабочий Е. З. Ежов воспользовался «отлучкой работницы раздевальни швейкомбината и снял с вешалки пальто Васильевой, а потом скрылся. Вор задержан. Он уже дважды судился за кражи» [27]. 14 марта 1937 года «постовой милиционер т. Крючков арестовал вора П. Ф. Брыляева. Тот забрался во двор дома № 62 по улице Ленина и хотел снять сушившееся там белье» [28]. В середине апреля 1937 года «из квартир Спиридонова и Кузнецова в домах по улице Водников неизвестные лица похитили домашние вещи на тысячу с лишним рублей» [29]. Впрочем, информация об этих событиях прошла почти незамеченной. А вот заметка в «Пролетарском пути» о воровстве в доме колхозника вызвала волну слухов. Авторы ее, педагоги Г. Конюхов и Р. Чикин, с возмущением писали: «В начале июля в Ульяновск приехали на курсы учителя из всех районов Куйбышевской области. В то же время учительский институт не мог разместить всех в своем общежитии. И нам пришлось устроиться в Доме колхозника. Встретили нас не особенно приветливо, а через три дня у нас украли пиджак, брюки, полотенце, мыло, зеркало и еще ряд вещей. Возместить убытки администрация Дома колхозника отказалась на том основании, что вещи должны сдаваться в камеру хранения. Правило хорошее, но тогда бы пришлось в очереди в камеру хранения стоять целый день» [30].
К сожалению, «Пролетарский путь» практически не печатал никаких статистических данных о количестве краж личной собственности граждан. Но даже по хронике преступлений такого рода можно сделать вывод, что они не были редким явлением в Ульяновске. Во-первых, на родине Ленина активно действовали различные категории воров. Например, в середине февраля 1937 года был схвачен карманник Г. Комолов [31]. Спустя три месяца работники 1-го отделения милиции арестовали целую группу воров-рецидивистов. Они (Беляев, Зелинский, Паньшин) в течение 4-х лет занимались «облегчением» карманов советских граждан [32]. Во-вторых, в кражах личной собственности были замечены представители разных возрастных групп, в том числе и дети.
4 июня 1937 года «Пролетарский путь» отметил, что в Ульяновске активизировались малолетние преступники. «Их, — рассказывал один из рабкоров, — сдружила улица. Оставаясь без надзора, ребята целые дни не появлялись дома, бродили по городу, занимались мелкими кражами. 24 мая Чернышев, Нигматуллин и еще один подросток (фамилия не установлена) украли из магазина № 2 промтоваров на девятьсот рублей. Часть из них они передали своим компаньонам — Абрамову и Анисимову. Самому старшему из воришек 15 лет. Все они учились, но познакомились со взрослыми преступниками, бросили ходить в школу. Родители не обратили на это внимание. Народный суд приговорил Чернышева к двум годам, а Абрамова и Анисимова к 6 месяцам лишения свободы».
Убедительным доказательством роста числа краж личного имущества жителей Ульяновска в период Большого террора являлся факт расширения «разделения труда» среди воровской братии. «Пролетарский путь» констатировал, что увеличилось количество «специалистов» по продаже похищенного добра в квартирах и домах. 27 января 1937 года газета сообщила, что задержана гражданка А. С. Давыдова, направлявшаяся с крадеными вещами в Москву. Спустя несколько месяцев работники уголовного розыска выявили воровской притон, «который содержали Илюхин и Мазитова. При обыске у них найдено больше двухсот краденых предметов» [33]. Весной 1938 года милиционеры раскрыли еще один подпольный пункт скупки и продажи краденых вещей, который развернул свою преступную деятельность с внушительным размахом: «Содержатели притона И. И. Осягин и его жена занимались приобретением похищенного и укрывали воров. В январе и феврале ими было принято от жуликов Сергеева, Морозова и других более 200 простыней, до 50 одеял и другие вещи, которые затем они планировали сбыть через торговок Е. Максимову, Д. Ваняти- ну, М. Моисееву. По этому делу арестовано 9 человек» [34].
Осенью 1938 года работники уголовного розыска задержали еще троих скупщиков краденого личного имущества (Шалаеву, Чугунову и Мартынову). Своеобразную явочную квартиру для гастролирующих воров, занимавшихся сбытом похищенного личного имущества, держал рецидивист Н. П. Крупочкин.
Помимо реальной возможности потерять предметы личного пользования в результате их тайного похищения, над ульяновцами висела угроза утраты своего имущества в условиях открытых противоправных действий со стороны преступных элементов. Вот из года в год повторяющийся типичный эпизод со времен гражданской войны: «Танцы в клубе закончились. Молодой человек проводил домой свою девушку. На обратном пути шел через Новый Венец. Ночь. Темно.
— Гражданин, позвольте закурить? — заявили четыре фигуры, выросшие перед ним. Двое приставили ножи к горлу.
— Раздевайтесь! — предложили они.
С перепуганного молодого человека сняли пальто, обувь, костюм и отпустили в одном нижнем белье» [35].
Ничего не изменилось и в период Большого террора… В начале 1937 года в Ульяновск приехал в командировку прораб Барановского района Куйбышевской области Костухин и, как часто это бывало, напился в ресторане, познакомился с теми, кто прошел тюремные университеты. Те предложили посетить злачное место, где его приголубят красивые женщины. Косту-хин обрадовался и отправился тут же с новыми «друзьями» в притон Дементьевой на Сборной улице. По дороге горячего поклонника женских прелестей, естественно, ограбили. Суд спустя месяц приговорил инициатора «экспроприации» И. Горюнова к лишению свободы на 5 лет и к поражению в правах на тот же срок [36].
Можно предположить, что в Ульяновске действовало несколько групп грабителей. В середине января 1937 года работники уголовного розыска «раскрыли и задержали шайку из четырех человек. В нее входили Борисов, Давыдов, Воеводин и Ромашина. Они раздевали пьяных, предварительно спаивая их в ресторане» [37]. По тому же сценарию развивались события, в ходе которых расстался с личным имуществом старший механик одной из МТС Татарской АССР Карпов, приехавший в Ульяновск, чтобы получить тракторы и горючее. «Вечером, — рассказывал хроникер «Пролетарского пути», —
5 марта он познакомился с двумя неизвестными. Те затем напали на него на улице и отобрали бумажник с документами и деньгами. Грабители задержаны» [38].
20 апреля 1937 года печатный орган ульяновских коммунистов воспроизвел с любопытными деталями «рабочий вечер» одной из грабительских групп: «Как-то четверо приятелей встретились на улице Чапаева. Разорвин и Устинов перед встречей побывали в пивной, а Калмыков и Каземиров выпили в гараже. Все были в «настроении» и решили повеселиться. Договорившись, они отправились на вечеринку к Р. Гавриковой, проживающей на этой же улице.
Для «бодрости» выпили еще. На вечеринке непрошеные гости вели себя развязно, подставляли ноги танцующим, приставали к девушкам. Вечеринка закончилась скандалом. Четверка «гостей» избила Ветанина, Белякова, Корчина и Бусыгина, отобрала у них галоши и кепку.
Окрыленные успехом, Разорвин, Устинов, Калмыков и Каземиров направились в центр города. В Лесном переулке им повстречались женщины. Хулиганы попытались отнять у них гармонь и раздеть. Женщинам с трудом удалось спастись от грабителей. Через несколько минут воинственно настроенная четверка напала на работников военторга Рожкова и Тихонова, избила их и отняла у одного пальто. Грабителей удалось задержать и арестовать.
Народный суд 3-го участка приговорил Ра-зорвина и Калмыкова к пяти годам лишения свободы, а Каземирова и Устинова к трем годам каждого».
Судя по материалам «Пролетарского пути», ежемесячно из Ульяновска отбывали за грабежи в места не столь отдаленные от 3 до 6 человек. «В ночь с 10 на 11 августа 1938 года, — отмечает газета, — в саду клуба 1 Мая (Заволжье) неизвестные раздели гражданина Б. Н. Кувшинникова. О случившемся пострадавший заявил в 3-е отделение милиции. Преступники привлекаются к уголовной ответственности» [39]. Ночью 4 сентября 1938 года «группа хулиганов напала на граждан Головань и Дорофееву. Им нанесли побои и ограбили. Хулиганы М. Богатов, В. Ефимов, С. Иванов, А. Глухин, В. Дворецкий, Н. Чекушин арестованы и привлекаются к уголовной ответственности» [40].
Понятно, что жители Ульяновска, имевшие преступные наклонности, посягали не только на личное имущество граждан, но и на социалистическую собственность. Конечно, часть тех, кто зарился на государственное достояние, могло остановить то обстоятельство, что за его хищение следовало более суровое наказание, нежели за воровство ведра картошки из погреба соседа.
Кражи с ульяновских заводов, фабрик и различных предприятий по своим размерам не поражают воображения. 28 января 1938 года «Пролетарский путь» поместил заметку под будничным заголовком «Хищение хлеба продолжается». «В слободе Нижняя Терраса, — сообщается в ней, — есть пекарня артели «Коммунар». Не так давно там были уволены за кражу мастер Свешников и другие, а через несколько дней в дровах на печке снова были найдены припрятанные две буханки. Через два дня эта история повторилась. Кроме того, под порогом нашли чашку с тестом. В пекарне есть люди, которым там не место». Через два дня читатели этой газеты в рубрике «Происшествия» ознакомились еще с одной столь же унылой новостью: «В убойном цехе мясокомбината систематически расхищаются мясо и сало. Милицией в течение 13 дней января задержано 70 человек с мясом и салом из этого цеха. У сестры заведующего убойным цехом М. Ивановой при обыске обнаружено 24 кг сала. Виновные в хищении привлекаются к уголовной ответственности».
В последующем «Пролетарский путь» периодически информировал о фактах воровства в различных государственных структурах. 28 мая 1938 года в нем появилось письмо рабкора Алексеева разоблачительного характера: «В первых числах марта возчики артели им. Куйбышева Вехов, Глазков, Зинин, Басыров, Карпов при перевозке груза фабрики им. Гимова похитили мешок шерсти и передали его на хранение конюху артели Галкину». Через две недели после публикации заметки рабкора Алексеева начальник 2-го отделения милиции г. Ульяновска уведомил редакцию газеты, «что факты, изложенные в письме, подтвердились. Воры привлекаются к судебной ответственности».
Кажется, сталинские времена по части хищения государственной собственности были позднее полностью скопированы эпохой генерального секретаря Л. И. Брежнева, когда страна наполнилась мелкими ворами, именуемыми деликатно и лицемерно «несунами». С начала 1938 года из столярной мастерской 263 участка военстроя рабочие ежедневно растаскивали дорогой пиломатериал. По вечерам они резали хорошие доски на обрезки по 40—60 сантиметров и уносили домой. Так продолжалось из месяца в месяц. Об этом с возмущением написал рабкор А. Чурбашкин. Столь же планомерно и настойчиво расхищали бензин с ульяновской нефтебазы [42]. На фоне торжества мелких воришек на родине Ленина едва ли не олигархом выглядел конокрад Бари Яфизов, который привлекался к суду 8 раз. В начале 1938 года, по мнению «Пролетарского пути», этот бывший кулак, «сколотив шайку, орудовал в Ульяновске и ближайших районах. Он произвел здесь 5 краж лошадей». Народный суд подвел итоги «деятельности» Б. Яфизова суровым приговором — 10 лет лишения свободы [43].
«Пролетарский путь» в 1937—1938 гг. не запечатлел на одного случая хищения государственного или общественного имущества, совершенного путем грабежа или разбоя (соответственно, ст. 90 и 91 УК РСФСР). Скорее всего таких эпизодов в жизни ульяновцев не наблюдалось. А вот хищений социалистической собственности, совершенных путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением (ст. 92 УК РСФСР) было в это время более чем достаточно. Чаще всего соблазн незаконного присвоения государственного имущества в личное достояние одолевал многих руководящих работников в Ульяновске.
В январе 1937 года «заведующий рестораном сада им. Свердлова Петров и работавший там буфетчик Ножнов взяли из кассы 9 тысяч рублей. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы со взысканием с них сумм, предъявленных им по гражданскому иску» [44]. Такой же срок получил заведующий складом базы сельхозснабжения Н. И. Осипов. 10 апреля 1937 года корреспондент «Пролетарского пути» М. Рен рассказал историю его падения: «Сначала он взял себе одеяло, затем ему понадобился матрац, потом облюбовал себе новые ботинки… В результате при проверке оказалась недостача товаров на 1558 рублей. Делами Осипова заинтересовались судебные органы. Это было в начале прошлого года. После первого допроса следователя он сбежал и целый год скрывался, работая в разных городах. В марте 1937 года Осипов был арестован. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с взысканием 1558 рублей». События, развернувшиеся в ресторане сада им. Свердлова и складе базы сель-хозснабжения, оказались типичными для большинства магазинов на родине Ленина. В них преобладали, по мнению автора передовой статьи в «Пролетарском пути» за 9 февраля 1938 года, «проходимцы и жулики».
Заглянем в заволжский магазин промторга. Там на протяжении нескольких лет была заведена жесткая система — какой бы товар не поступал, львиную долю из него брали себе директор этого торгового заведения Волгусов и продавцы Семенов и Макухина. Но никто им не смел возразить. «Однажды, — писал рабкор «Пролетарского пути», — Волгусов взял себе 50 рейтуз. Сотнями метров тащил он мануфактуру, десятки пар обуви забирал Семенов. Дефицитные товары везла себе Макухина. Все это они сплавляли знакомым, обменивали на молоко, яйца, масло, мясо, овощи. Эти преступления раскрыл уголовный розыск. Директор и продавцы отданы под суд» [45].
Несколько раз жаловались редакции «Пролетарского пути» жители центральных улиц Ульяновска на безобразия, которые творились в магазине № 9. Газета провела свое расследование: «В этой торговой точке работала тесная и дружная семейка — Дружинин, его брат и жена. 8 декабря 1937 года должна была продаваться копченая рыба, но для того, чтобы рыбу раздать по знакомым и спекулянтам, продавцы объявили покупателям, что рыбу будут продавать после обеда с 2 часов дня, а потом объявили, что рыбы нет. Проведенной проверкой факты полностью подтвердились, за что Ульяновским пи-щеторгом зав. магазина № 9 Дружинин, его жена — продавщица Голик и брат Борис Дружинин с работы сняты и дело на них передано в судеб- но-следственные органы. Сам Дружинин взят под стражу» [46].
Дважды «Пролетарский путь» печатал обличительные материалы о криминальной обстановке в военторге. 29 декабря 1937 года газета выразила убеждение в засоренности этого крупного магазина мошенниками и жуликами. 16 января 1938 года орган ульяновских коммунистов вновь вернулся к затронутой теме, поскольку директор военторга не принял мер по очистке своего магазина от проходимцев: «С 1932 года, например, колбасным отделом заведует Половов. Он буквально на следующий день после своего назначения окружил себя людьми, достойными его, — вороватыми племянницами, сестрами, зятьями и прочими родственниками. Здесь производят продажу мяса и костей, но никаких следов об их реализации в бухгалтерии, конечно, нет. Ежедневно к Половову приходят посторонние лица, а он их любезно принимает в отдаленной комнате, а через некоторое время они выходят со свертками в руках. Так растаскивается, не дойдя до прилавка, колбасная продукция. Не мешало бы прокуратуре заняться этой компанией». К сожалению, газета так и не сообщила об итогах публикации своих обличительных заметок.
Примечательно, что на страницах «Пролетарского пути» за 1937—1938 гг. среди обилия материалов о махинациях и злоупотреблениях руководителей ульяновских магазинов лишь один был упомянут как директор, работавший честно: «Тов. Беляев с большой любовью относится к делу, навел образцовый порядок, привил продавцам навыки культурной работы. Здесь систематически перевыполняется план товарооборота» [47].
К числу наиболее распространенных уголовных преступлений в Ульяновске в 1937— 1938 гг. относилось и хулиганство — нарушение общественного порядка, совершенное по причине явного неуважения к нормам социалистической морали. Оно предпринималось по незначительному поводу; отличительным (и вместе с тем обязательным) признаком данного общественно опасного деяния является хулиганский мотив, то есть стремление лица в неуважительной форме противопоставить себя обществу, проявить пьяную удаль, грубую силу, буйство, демонстративное пренебрежение нормами поведения, морали.
В начале февраля 1937 года в истории существования «Пролетарского пути» произошел уникальный случай: он опубликовал цифры, касающиеся криминальной жизни Ульяновска. Га- зета поместила отрывок из выступления начальника милиции Щербака на XIV городской партийной конференции, в котором тот охарактеризовал некоторые виды правонарушений. В частности, он сказал: «В 1936 году в городе были замечены в хулиганстве и различных преступлениях 1759 человек. Хулиганство развивается главным образом в центре города — на улицах, в клубах, особенно пивных. В центре города за 1936 год было 1126 случаев хулиганства, в пивных — 175, в клубах — 78, в Заволжье — 106. Хулиганство развивается главным образом среди молодежи, в большинстве до 20-летнего возраста» [48].
На полосах «Пролетарского пути» нашли отражение наиболее резонансные хулиганские выходки: «8 февраля 1937 года 4 бандитов остановили на улице Кобозева рабочего швейного комбината имени Ворошилова В. И. Васильева и нанесли ему 7 ран. Работники милиции в эту же ночь арестовали преступников. Среди них были Белов — сын торговца мясом, Моисеев — сын матери-притоносодержательницы. Орлов и Волынкин ранее судились за правонарушения» [49]. Хулиганы так и не смогли ответить на неоднократно задаваемые вопросы, зачем они нанесли ножевые ранения В. И. Васильеву…
7 ноября 1936 года кинотеатр «Экспресс» получил новое название — «Пионер». «Открытие его, — констатировал один из рабкоров «Пролетарского пути», — многие оценили как большое достижение. Но отзвучали торжественные речи — и наступила тревожная пора. У кассы хулиганы вырывают у ребят деньги и билеты. Здесь не смолкает брань, стоит голубой туман папиросного дыма, случаются драки. Рядышком с детским кинотеатром находится магазин центрос-пирта и пивная «Жигули». Зачастую посетители этих торговых точек ошибаются дверьми, и у кассы разыгрываются невеселые сцены. Хулиганству в «Пионере» никто не дает отпора» [50].
16 апреля 1938 года «Пролетарский путь» описал серию «подвигов» известного заволж- ского хулигана В. Сарычева: «Ночью 27 ноября 1937 года он напал на гражданина Аникина, ударил его, плюнул в лицо и выругал. Через несколько часов Сарычев встретил гражданина Кувалдина и стукнул его кирпичом. 10 января 1938 года этот «богатырь» напал на гражданина Татунова и выбил ему зубы. Через некоторое время Сарычев у кассы клуба им. Володарского сильно ударил Алексеева. Суд приговорил «добра молодца» к 4 годам лишения свободы».
Эстафету хулиганских деяний Сарычева было кому подхватить в Ульяновске. Смертельно напугали многих хулиганы И. И. Прапорщиков и Я. А. Салов, «которые с ножами в пьяном виде преследовали прохожих на центральных улицах». Потом они с тем же оружием атаковали большую толпу на автобусной станции. Когда же их «попытался задержать постовой милиционер Привалов, хулиганы, не колеблясь, бросились на него. Желая остановить Прапорщикова и Салова, страж порядка вытащил из кобуры револьвер и хотел выстрелить вверх. Однако потерял равновесие, и пуля попала в стоявшего в толпе 14-летнего Л. Захарова. Задержать хулиганов помог милиционеру проезжавший мимо лейтенант тов. Тюленев. Раненого подростка немедленно доставили в больницу, оказали там ему помощь. Задержанный хулиган Прапорщиков, как оказалось, имел уже два привода по подозрению в кражах; сейчас он — без определенных занятий. Салов работает грузчиком в Киндяковке. Оба привлекаются к уголовной ответственности» [52].
Почти полгода ульяновцы перемалывали косточки заведующему дезинфекционным бюро Горшенину. Человек сугубо мирной профессии стал известен всему городу. Ему «Пролетарский путь» посвятил фельетон: «В 1938 году Горшенин решил развернуть свои таланты на почве массово-алкогольной работы. Центральным штабом у него стало помещение сторожа. Начал там пить Горшенин, к нему быстро присоединились сотрудники дезинфекционного бюро. А недавно Горшенин вместе с профуполномоченным Левановым и всеми подчиненными выехал на массовку в лес. Все шло как полагается. Выпили. Пили за птичек, за свежий воздух, за зелень. Финалом смычки с природой явилась грандиозная массовая потасовка, в просторечии именуемая дракой. Первенство в ней взял сам Горшенин, избивший до того своего подчиненного — младшего дезинфектора Зотова, что тот выбыл из строя и длительное время не работал. Пострадал не только Зотов. Бойцы умудрились сломать и беззащитную казенную телегу, на которой возили продукты» [53].
Но особенно ульяновскую общественность взволновали хулиганские баталии, зачинщиками которых были студенты дорожно-механического техникума — самого крупного среднего учебного заведения на родине Ленина. 11 декабря 1938 года «Пролетарский путь» выразил негодование их поведением: «Месяц назад имело место происшествие — неожиданное и позорное. Оно несовместимо с моралью советской молодежи. Группа студентов дорожно-механического техникума, среди которых были и комсомольцы, затеяли на улице пьяный скандал, который вылился в массовую драку с поножовщиной. Однако должных выводов не было сделано, и история повторилась. Другая группа студентов, также злоупотреблявших вином, избила своего товарища в техникуме».
Во многих районах города жители, опасаясь хулиганов, не рисковали с наступлением темноты выходить на улицы. Поздно вечером в Подгорье никто не отваживался идти пешком со станции Ульяновск II [45]. В северной части, отметил «Пролетарский путь», «нередко хозяйничают хулиганы». Они обнаглели до того, что «разгораживают заборы и ломают тротуары» [55]. В слободе Туть «группа хулиганов на протяжении долгого времени терроризировала все население. Недавно они нанесли сильные побои гражданину Матюшкину. Хулиганы арестованы. А. М. Захарчев, главарь этой шайки, и соучастники Б. А. Белов, П. И. Карманов, Н. Т. Оганян привлекаются к уголовной ответственности» [56].
Разумеется, в Ульяновске совершались и другие виды уголовных преступлений. Например, обсчет покупателей, браконьерство, проведение подпольных абортов и т. д. Но о них «Пролетарский путь» сообщал редко. В одном случае потому, что они составляли неотъемлемую, привычную часть жизни общества и не вызывали интереса у читателей, в другом — оттого, что наблюдались эпизодически.
-
1. История КПСС. Т. 5. Кн. 1. М., 1970; История СССР. Эпоха социализма. М., 1977.
-
2. Курс советского уголовного права : в 6 т. М.,
1968—1972.
-
3. См.: История государства и права. М., 2001;
-
4. Верт Н. История Советского государства. 1900— 1991. М., 1992. С. 228.
-
5. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001. С. 66.
-
6. Там же. С. 75, 187.
-
7. Родной город Ильича. Ульяновск, 1972; Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Ч. II.
-
8. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005. С. 81.
-
9. Там же. С. 85.
-
10. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 653.
-
11. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987. С. 111.
-
12. Курс советского уголовного права. Т. 5. М., 1970. С. 477.
-
13. Пролетарский путь. 1937. 4 июня.
-
14. Там же. 1938. 4 июня.
-
15. Там же. 1938. 14 апр.
-
16. Там же. 1938. 30 марта.
-
17. Там же. 1938. 11 янв.
-
18. Там же. 1937. 17 мая.
-
19. Там же. 1937. 15 июня.
-
20. Там же. 1937. 23 нояб.
-
21. Там же. 1938. 29 мая.
-
22. Там же. 1937. 8 марта.
-
23. Там же. 1938. 11 апр.
-
24. Там же. 1938. 16 сент.
-
25. Там же. 1938. 27 дек.
-
26. Там же. 1938. 15 янв.
-
27. Там же. 1938. 8 февр.
-
28. Там же. 1937. 8 февр.
-
29. Там же. 1937. 16 апр.
-
30. Там же. 1937. 10 авг.
-
31. Там же. 1937. 16 февр.
-
32. Там же. 1937. 3 июня.
-
33. Там же.
-
34. Там же. 1938. 20 марта.
-
35. Там же. 1936. 5 февр.
-
36. Там же. 1937. 4 янв., 16 февр.
-
37. Там же. 1937. 16 янв.
-
38. Там же. 1937. 9 марта.
-
39. Там же. 1938. 18 авг.
-
40. Там же. 1938. 14 сент.
-
41. Там же. 1937. 24 апр.
-
42. Там же. 1938. 26 окт.
-
43. Там же. 1938. 22 сент.
-
44. Там же. 1937. 15 февр.
-
45. Там же. 1937. 14 мая.
-
46. Там же. 1938. 11 янв.
-
47. Там же. 1938. 9 февр.
-
48. Там же. 1937. 3 февр.
-
49. Там же. 1937. 14 февр.
-
50. Там же. 1937. 18 февр.
-
51. Там же. 1937. 26 февр.
-
52. Там же. 1938. 15 февр.
-
53. Там же. 1938. 11 авг.
-
54. Там же. 1937. 21 марта.
-
55. Там же. 1937. 20 дек.
-
56. Там же. 1938. 12 сент.
Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сиво-хина Т. А. История России. М., 2012.
Ульяновск, 1972; Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т. 1, 2. Ульяновск, 2000, 2004; Сим-бирский-Ульяновский край в новейшей истории. 1917—1991. Ульяновск, 2012 и др.
Список литературы Наиболее распространенные виды уголовных преступлений на родине Ленина в 1937-1938 гг.
- История КПСС. Т. 5. Кн. 1. М., 1970; История СССР. Эпоха социализма. М., 1977.
- Курс советского уголовного права: в 6 т. М., 1968-1972.
- История государства и права. М., 2001; Орлов А. С., Георгиев В. А., Гэоргиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. М., 2012.
- Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 1992. С. 228.
- Фицпатрик LU. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001. С. 66.
- Родной город Ильича. Ульяновск, 1972; Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Ч. II. Ульяновск, 1972; Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т. 1, 2. Ульяновск, 2000, 2004; Симбирский-Ульяновский край в новейшей истории. 1917-1991. Ульяновск, 2012 и др.
- Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005. С. 81.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 653.
- Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987. С. 111.
- Курс советского уголовного права. Т. 5. М., 1970. С. 477.
- Пролетарский путь. 1937. 4 июня.