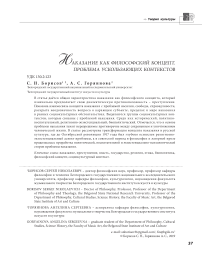Наказание как философский концепт. Проблема ускользающих контекстов
Автор: Борисов С.Н., Горяйнова А.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 1 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье даётся общая характеристика наказания как философского концепта, который изначально предполагает свою диалектическую противоположность - преступление. Показана взаимосвязь концепта наказания с проблемой насилия, свободы, справедливости, раскрыта неодозначность вопроса о карающем субъекте, пределах и мере наказания в разных социокультурных обстоятельствах. Выделяются группы социокультурных контекстов, которые связаны с проблемой наказания. Среди них исторический, политиковоспитательный, религиозно-экзистенциальный, биополитический. Отмечается, что в основе проблемы наказания лежит неразрешимое противоречие между сохранением и уничтожением человеческой жизни. В статье рассмотрена трансформация концепта наказания в русской культуре, где до Октябрьской революции 1917 года был глубоко осмыслен религиозноэкзистенциальный аспект проблемы, а в советский период в философии и лагерной прозе продолжалась проработка политической, воспитательной и экзистенциально-психологической сторон проблемы наказания.
Наказание, преступление, власть, государство, религия, этика, биополитика, философский концепт, социокультурный контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/144160820
IDR: 144160820 | УДК: 130.2:123
Текст научной статьи Наказание как философский концепт. Проблема ускользающих контекстов
Проблема наказания всегда была не только практической, но и теоретической проблемой, а рефлексия наказания как феномена культуры создавала традицию осмысления наказания как философского концепта, который изначально предполагает свою диалектическую противоположность – преступление. И большей частью цель инициируемых размышлений заключается в попытке обнаружить адекватный способ и меру наказания применительно к человеку как к субъекту. Наказание как философский концепт предполагает отношение к преступнику не только как к активному и даже агрессивному началу, но как субъекту духовно-нравственного выбора, чем и должна в конечном счёте определятся мера наказания.
В истории культуры отношение к наказанию определялось конкретно-историче- скими обстоятельствами. От эпохи к эпохе отношение к тому или иному наказанию могло быть полярным: от предпочтения наиболее жёсткого вида кары, возложения миссии карать на богов – до поиска наиболее гуманных способов воздействия на преступника, поисков возможностей предотвратить преступление и обойтись минимальным наказанием. Современная «гуманная» цивилизация уже не мыслит нормальной ситуацию насильственного лишения жизни человека, но и найти другие возможности решить проблему преступности и наказания пока не может. Сложность философско-культурологической рефлексии состоит, таким образом, в том, что она, всё более проблематизируя наказание как физическое воздействие, изначально устанавливает неоднозначный статус наказания, начиная с парадигмальной, но так и не ос- мысленной в полной мере казни Сократа. Задача актуального философского исследования состоит в обозначении некоторого круга проблем и аспектов, с которыми связан философский концепт наказания сегодня, а также в выявлении тех контекстов, которые могут быть перспективны для его дальнейшего осмысления.
Сегодня дискуссия вокруг проблемы наказания выстраивается по ряду направлений, наиболее влиятельное из которых связано с более фундаментальными феноменами насилия и власти. В этом контексте наказание есть не что иное, как применение насилия, санкционированное некой легитимной властью. Неразрывно связанная с проблемой легитимности власти и насилия, в первую очередь со стороны государства, эта линия осмысления проблемы наказания продолжает быть актуальной. Речь идёт прежде всего о мере насилия государства по отношению к индивиду. Философский концепт наказания в этом контексте неотделим от представлений о гуманизме. Соответственно, история гуманизма, его теории и практики, актуализирует тему неполной изоляции преступников от общества, неполного поражение их прав.
Гуманное отношение к личности преступника (до определённой степени, которую устанавливает само общество) влечёт за собой попытку избежать причинения ему лишних страданий, и поэтому начинается постепенный пересмотр способов наказания. Проблема выбора наказания и его пределов есть вторая линия контекстов, которая порождается невозможностью гарантии того, что преступник не вернётся к своей криминальной деятельности вновь. Именно это обстоятельство в первую очередь рождает ощущение бессилия общества перед криминалом, впечатление того, что наказания неправильны или неэффективны, а следовательно, утрачивают изначальный смысл. Экзистенциально и генетически эта линия восходит к феномену мести и проистекает из первой проблемы и обозначенной нами контекстуальной линии. Более того, она бросает тень или подрывает первоначальные смыслы, ставя под сомнение легитимность власти, дебатируя его бездеятельность, равно как и деятельность.
Третья линия актуализации проблемы наказания также связана с предыдущими и продолжает их через привлечение ряда других концептов, разработанных, в частности, применительно к проблеме наказания в работах М. Фуко. Его произведения «Надзирать и наказывать», «Управление собой и другими», «Биополитика» не только выявляют подоплёку эволюции наказаний. Фуко настаивает на том, что современное общество постепенно переходит от контроля тела к контролю сознания и при этом под судом оказываются страсти, инстинкты, аномалии, физические недостатки, неприспособленность, последствия воздействия среды или наследственность. Он вычленяет четыре типа обществ по типу «избавления» от живых людей: общества бойни и ритуальных убийств, общества ссылки, общества реабилитации, общества заключения [8, с. 10]. Работы Фуко являются если не отправной точкой этой линии осмысления наказания, то уж точно некой «точкой сборки» смыслов и контекстов, связывающих наказание с практикой, технологией и управлением, а также с воспитанием.
Здесь стоит уточнить, что исторически наказание выступало в нескольких сменяющихся ипостасях, каждая из которых соотносилась с проблемой воспитания через категорию блага. Смысл такой связки в том, что наказывающая санкция (насилие) должна отличаться от преступления. Тогда эволюция или некие весьма условные эта- пы понимания насилия могут представлять собой следующее: наказание как благо для жертвы преступления, благо для рода, благо для божества (в традиционных культурах); наказание преступника как благо для общества (в культуре модерна); наказание преступника как благо для государства, власти и законности (например, в тоталитарном обществе); наказание преступника как благо для истории (в переломные исторические моменты).
Таким образом, через категорию «благо», идею положительных результатов в виде исправления личности преступни- ка христианское, а впоследствии и современное европейское общество оправдывает необходимость наказания, нивелирует возможное чувство вины перед преступником, фактически оставаясь на стороне жертвы, но декларируя и милосердие, адресованное осуждённому преступнику, уравновешивает ситуацию нравственного выбора. Обратим внимание ещё на один аспект проблемы, который выделяет А. К. Судаков, подготовивший в «Новой философской энциклопедии» статью о наказании. Он следующим образом характеризует позицию государства как субъекта осуществления наказания: «Отношение власти к преступнику оказывается тогда возможно вывести за рамки моральной оценки, представив как отношение к человеку, лишившему себя своим преступным деянием статуса полноценного члена общества; законопослушный же гражданин должен укрепиться на примере наказания преступника в своём умонастроении справедливости, поэтому наказание должно быть публичным» [3, с. 11].
Однако сегодня связь наказания и блага не столь очевидна. Преобладающие «технологические» моменты в осмыслении наказания вытесняют этот контекст, как и этиче- ское, экзистенциальное измерение проблемы в целом. Наказание перестаёт быть сугубо человеческим феноменом, становясь всё более технологическим. Объектом наказания становится не человек, а жизнь, «биос», как его понимает Дж. Агамбен [1]. Для отечественной традиции осмысления наказания такое смещение фокуса рефлексии означает весьма серьёзную трансформацию (возможно, даже более серьёзную, чем для западной традиции). В России, пережившей так много потрясений в XX веке, философская рефлексия наказаний была многократно усилена, причём не только по отношению к отечественным историческим реалиям, но к проблеме наказания в целом. Захватывалась не только тема наказания, но и образы преступника, заключённого, каторжанина, описывалось самое дно общества, о чём пойдёт речь далее.
***
Одним из первых исследователей, коснувшихся темы наказания в России, наверное, можно назвать О. Горегляда, опубликовавшего в 1815 году (один из самых ранних из найденных нами источников) труд «Опыт начертания российского уголовного права. О преступлениях и наказаниях вообще». В этой работе есть главы, посвящённые и телесным наказаниям, и ссылке и её последствиям, казённым работам, конфискации и т.д.
Большой вклад в осмысление данной проблематики до Октябрьской революции 1917 года внесли русские историки. И здесь нужно выделить работы М. Ступина «История телесных наказаний в России от судебников до настоящего времени» (1887), В. В. Есипова «Преступление и наказание в древнем праве» (1903), Н. Н. Евреи-нова «История телесных наказаний в России» (1913), П. Кропоткина «Тюрьмы, ссылка и каторга в России» (1906).
Теоретической стороной проблемы занимались представители классической философской мысли, например, Е. Н. Трубецкой «История философии права» (1899).
Интересовались проблемой наказания в нарождающейся социологии. Речь идёт о работе П. А. Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали» (1914), в которой автор ищет причины увеличения количества и степени жестокости наказаний. Это происходит, как показывает учёный, в ситуациях, когда в группе людей обнаруживается антагонистическая гетерогенность, когда происходит дифференциация группы на две и более части, а убеждения людей не совпадают друг с другом. Но и после победы той или иной стороны, по мнению П. А. Сорокина, уровень санкций со стороны победивших в такой ситуации продолжает оставаться высоким и даже идёт вверх [7].
Отдельно нужно выделить интерес литераторов к данной теме, представленный произведениями А. П. Чехова («Остров Сахалин»), Ф. М. Достоевского («Записки из мёртвого дома»), Л. Н. Толстого («Воскресение»). Здесь, как и в осмыслении других экзистенциальных проблем, русские писатели порой опережают философов, для которых существовали серьёзные цензурные запреты в условиях монархического режима. Именно в русской литературной классике присутствует философская рефлексия проблемы наказания, когда тема насилия со стороны преступника и по отношению к нему самому обнаруживает свою связь с проблемами нравственности, экзистенциального переживания, религиозных исканий.
Несмотря на радикальные социальнополитические трансформации, указанные выше гуманистические традиции в осмыс- лении проблемы наказания продолжились в советской исторической науке и философии. При этом в первые десятилетия после Гражданской войны многие жертвы преследований царской России были многократно упомянуты в публичных источниках и фактически возведены в героический статус [2; 4]. Само наказание представляло здесь необходимый этап мученичества на пути к всеобщей (практически мировой) справедливости и благоденствию. Гуманистические традиции русской культуры сочетаются в этот период с классовым подходом к истории и современности. С классовой точки зрения обращались к изучению вопросов о крестьянских бунтах, крупных народных восстаниях, деятельности декабристов, первых революционеров, литераторов, оглядываясь далеко назад. В качестве примера достаточно привести тот факт, что с 1921 года по 1935 год выходил историко-революционный журнал «Каторга и ссылка», издание которого организовало Всесоюзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В свет вышло порядка 116 выпусков. В журнале был представлен интересный, даже уникальный материал, а среди авторов можно было найти известных деятелей (например, А. М. Коллонтай) [5]. Само Всесоюзное общество было организовано в том числе с подачи Ф. Э. Дзержинского, в его состав входили известные личности (такие, например, как В. Н. Фигнер).
Изучение революционных событий в России, истории царской тюрьмы и ссылки проводилось в эти годы сквозь призму человеческих судеб и биографий, что вносило в изыскания более героический и в то же время гуманистический смысл. Последний был важен в контексте не только анализа прошлого, но также настоящего и будущего, поскольку наказание нуждалось в обосновании уже советской властной систе- мы. В концептуальном плане в этот период проблема наказания утрачивает религиозно-нравственный смысл, как это было в романах «Преступление и наказание» Достоевского и «Воскресение» Толстого. На первый план выходят не просто светские моменты, связанные с идеями свободы, справедливости, воспитания личности, но именно политические и классовые аспекты проблемы. Причём классовый аспект или, если взять шире, политический аспект наказания по большому счёту также является одним из утраченных сегодня контекстов.
Интересно, что в советский период экзистенциальный контекст обсуждения проблемы наказания окончательно вытесняется из пространства философского дискурса в область художественной литературы. У целого ряда советских поэтов и писателей, в своё время переживших опыт заключения, существует своя интерпретация наказания. В произведениях В. Шаламова наказание связано с жёсткой установкой на выживание, а само оно предстаёт как бессмысленное, жестокое и ненужное. Наказание ведёт к радикальной трансформации человека, заключающейся в потере им всего человеческого. В. Шаламов выделяет два пути изъятия человеческого, во-первых, посредством физического насилия, а также через принятие языка преступной среды: «Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут сравнительно хорошо … Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни – у блатарей, что, только подражая им в своём поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом дне. И крестьянин начинает подражать блатарям в своём поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками – без этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола, заключённый или вольный, побывавший на Колыме. Слова эти – отрава, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром» [9, с. 165–167]. В творчестве В. Шаламова представлена этико-отри-цающая модель интерпретации наказания. В другом произведении автор воспринима- ет наказание как дополнительную возможность совершенствования человека, появляются практически педагогические смыслы: «Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере» [10].
Во многом схожее понимание наказания, сдвигающегося в экзистенциальнопсихологическую плоскость, мы находим в творчестве А. И. Солженицына, где жизнь «на зоне» раскрывается как череда мелких забот, обстоятельств, радостей, случайностей. Автор пишет: «Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать» [6]. Наказание расслаивается на мир «маленьких» предметов, сама лагерная среда выступает как незлобная, неопасная, создающая спокойствие и обычные привычки (что рождает в читателе подозрение в обратном), некоторую пассивность, но не сытую, а наоборот, рождённую голодным бессилием, усталостью. Эта минимальная энергия заключённых, способная лишь немного поддерживать жизнь, как будто заставляет их оперировать «маленькими» предметами, глубоко не рефлексируя над какими-то глобальными философскими вопросами.
Круг мыслей отбывающего наказание – это ближайшие заботы, такие как рассчитать еду на несколько дней, добыть побольше пищи. В этой рутине теряется человек, возможность его полноценной жизни, остаётся лишь место для «голой жизни», физического выживания. Человек – смертное существо, ему надо питаться и постоянно задумывать над тем, где добыть ещё немного жизненной энергии – в больнице, в лишней порции баланды.
Именно в произведениях А. И. Солженицына обнаруживает себя экзистенциальная линия интерпретации наказания в советской литературе и культуре как глубокого опыта выживания и перенесения страданий, а также попытки сохранения человека как человека, а не просто как некоего «живого», простой жизни или «голой жизни». Наказание сужается здесь до непосредственной угрозы человеческому и не только посредством физического насилия, уничтожения, но также насилия символического, что увидел В. Шаламов в усвоении криминального языка.
***
Таким образом, в осмыслении проблемы наказания нельзя фиксировать однонаправленной общей эволюции смыслов наказания и присущих им контекстов. Но нель- зя и сказать, что в отношении концепта наказания работает только логика вычитания, когда контексты утрачиваются и ничего не возникает взамен. Проблематика наказания в культуре оказывается одним из центров, который стягивает смыслы и организует поля контекстов, которые исторически меняются. Эта проблема имеет академический ракурс, но её содержание в качестве философского концепта обогащается за счёт экзистенциальных смыслов, выявляемых художественным образом, религиозной практикой, воспитательным действием.
На смену религиозно-экзистенциальным смыслам в ХХ веке приходят политиковоспитательные, а в наши дни, скорее, биополитические, как понимал их М. Фуко, или постполитические, связанные с управлением и контролем над жизнью. Сутью проблемы наказания в современной постполитической реальности можно считать приоритет сохранения человеческой жизни через её уничтожение или ограничение, отсроченную смерть в качестве полумеры. Здесь находится центр осмысления этой проблемы в современной культуре, где она вписывается в актуальные контексты, предполагающие своеобразную экономику смерти и её отсрочки за вычетом человека, оставляя в качестве объекта саму жизнь как таковую.
Список литературы Наказание как философский концепт. Проблема ускользающих контекстов
- Агамбен Дж. Homo Sacer. Чрезвычайное положение: пер. с итал. Москва: Европа, 2011. 148 с.
- Лебедев Д. Л. Общество бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Всемирная история»: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: https://w.histrf.ru/ articles/article/show/obshchiestvo_byvshikh_politichieskikh_katorzhan_i_ssylnoposielientsiev
- Новая философская энциклопедия: в 4 томах / научно.-ред. совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов; Институт философии РАН. 2-е изд., испр. и допол. Москва: Мысль, 2010. Том 3. 692 с.
- Папков С. А. Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев в Сибири (1924-1935 гг.) // Институты гражданского общества в Сибири (XX - начало XXI в.). / отв. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск, 2009. С. 94-107. URL: http://zaimka.ru/papkov-exiles
- Политическая каторга и ссылка: Биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Москва: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 686 с. URL: http://elib.shpl.rU/ru/nodes/157#page/1/mode/grid/zoom/1
- Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича [Электронный ресурс] // Православная художественная литература: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: https://azbyka.ru/fiction/ odin-den-ivana-denis ovich a
- Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали: К 110-й годовщине со дня рождения / подгот. В. В. Сапов. Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1999. 446 с. (Серия «Русская социология XX века» / Русский христианский гуманитарный институт)
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 / пер. с фр. И. Окуневой под общей ред. Б. М. Скуратова. Москва: Праксис, 2005. 320 с.
- Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Москва: Эксмо, 2008. 687 с.
- Шаламов В. Т. Вишера. Антироман // Собрание сочинений: в 4 томах / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. Москва: Художественная литература, Вагриус, 1998. Том 4. URL: http:// www.belousenko.com/books/Shalamov/shalamov_vishera.htm