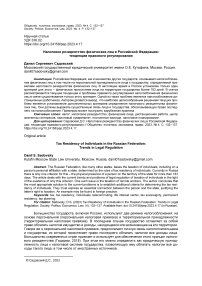Налоговое резидентство физических лиц в Российской Федерации: тенденции правового регулирования
Автор: Садовский Данил Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Российская Федерация, как и множество других государств, основывает налогообложение физических лиц в том числе на персональной принадлежности лица к государству, определяемой правилами налогового резидентства физических лиц. В настоящее время в России установлен только один критерий для этого - физическое присутствие лица на территории государства более 183 дней. В статье рассматриваются текущие тенденции и проблемы правового регулирования налогообложения физических лиц в свете существования только этого критерия. Одной из таких проблем является налогообложение дистанционных работников. Автором делается вывод, что наиболее целесообразным решением текущих проблем является установление дополнительных критериев определения налогового резидентства физических лиц. Они должны выражать существенную связь лица и государства, обосновывающую право последнего на налогообложение. Примером может послужить зарубежная практика.
Налог, налоговое резидентство, физические лица, дистанционная работа, центр жизненных интересов, налоговый суверенитет, постоянное жилище, налоговое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149142196
IDR: 149142196 | УДК: 336.02 | DOI: 10.24158/pep.2023.4.17
Текст научной статьи Налоговое резидентство физических лиц в Российской Федерации: тенденции правового регулирования
Россия, как и многие государства, в отношении доходов физических лиц – налоговых резидентов установила режим налогообложения «общемировых доходов» (Бондарчук, Иванов, 2022; Юлгушева, 2021). Это означает, что налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) облагаются как доходы, возникшие в РФ, так и от иностранных источников (ст. 209 Налогового кодекса РФ1). При этом в настоящее время в российском законодательстве установлен только один критерий определения налогового резидентства физических лиц: ими признаются фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев лица (п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ). Данный критерий, называемый тестом физического присутствия, является одним из наиболее распространенных в налоговом законодательстве государств. Считается, что если лицо проводит определенное время (чаще всего более полугода) на территории страны, оно должно вносить свой вклад в финансирование общественных благ, которые предоставляет государство обществу (оборона, правоохранительная система, инфраструктура и т. д.).
В современном мире люди становятся всё более мобильными: человек может жить длительно в нескольких странах, не проведя при этом более 183 дней ни в одной из них. Таким образом, применение исключительно теста физического присутствия может привести к ситуации, когда лицо не будет являться налоговым резидентом ни в одном государстве.
Однако связь государства и налогоплательщика, достаточную для возникновения права на налогообложение общемировых доходов, могут образовывать и другие факторы помимо физического присутствия. Эта и другие причины привели к тому, что в налоговой практике государств применяется множество иных критериев, таких как гражданство, центр социальных и экономических интересов, наличие постоянного жилища, обычное место пребывания и др.
Несмотря на установление в Налоговом кодексе РФ исключительно критерия нахождения в РФ не менее 183 дней в году, в 2015–2016 гг. ФНС России в ряде официальных писем выражала позицию, согласной которой при определении статуса налогового резидентства РФ могут быть применимы критерии постоянного места жительства и центра жизненных интересов. По мнению налоговых органов, первое должно было подтверждаться наличием жилого объекта в собственности либо действующей регистрацией по месту жительства, а второе – местом нахождения семьи, основного бизнеса или работы2. При обосновании этой позиции налоговые органы ссылались на положения действующих международных соглашений, которые содержат такие критерии для разрешения конфликта двойного налогового резидентства (tie breaker rules). Очевидно, в этом случае ФНС России явно вышла за пределы своих полномочий по разъяснению налогового законодательства и, по сути, попыталась создать новую его норму. Позднее Минфин России признал часть этих писем не подлежащими применению по причине несоответствия «налоговому законодательству РФ, положениям международных соглашений об избежании двойного налогообложения, а также несогласованностью с позицией Министерства финансов Российской Феде-рации»3. В дальнейшем ФНС России такую позицию не выражала.
В то же время в 2019 г. в рамках «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»4 Минфин России предложил сократить количество дней для определения налогового резидентства РФ со 183 до 90 дней, а также ввести тест центра жизненных интересов. В качестве причины, объясняющей необходимость изменений, была названа возросшая мобильность физических лиц и то, что это «затруднит недобросовестным налогоплательщикам уклонение от налогообложения в Российской Фе-дерации»5. Обоснование Минфином России своего предложения необходимостью борьбы с недобросовестным уклонением от налогообложения само по себе дискуссионно. С одной стороны, применение исключительно теста физического присутствия действительно даёт физическим лицам определенный простор для налогового планирования. Так, можно представить следующую ситуацию: физическое лицо, зная, что в определенный момент времени оно получит высокий доход от иностранного источника (например, от продажи ценных бумаг), сознательно выезжает за пределы РФ и проводит более 183 дней до даты получения дохода в юрисдикции с низким уровнем налогообложения (либо где налогообложение иностранных доходов вовсе отсутствует). Являются ли такие действия добросовестными – отдельный вопрос. Что касается «уклонения от налогообложения», то в соответствии с наиболее принятым подходом под ним (tax evasion) понимается неуплата налогов, связанная с прямым нарушением закона1. Согласно ч. 2 ст. 27 Конституции РФ2 каждый может свободно выезжать за пределы РФ и имеет право беспрепятственно возвращаться. При отсутствии соответствующих запретов или ограничений законодательством не установлено обязанности обосновывать необходимость выезда за пределы РФ. Оно также не содержит норм, позволяющих связать потерю физическим лицом налогового резидентства с совершением правонарушения в этой сфере. Общие антиуклонительные нормы содержит ст. 54.1 Налогового кодекса РФ3, согласно которой, в частности, при совершении сделок (операций) основной целью налогоплательщиков не должно являться уменьшение налоговой базы или суммы налога (доктрина «основной цели»). Но представляется, что в данном случае речь идет о сделках, и применение статьи не распространяется на любые действия физических лиц, в том числе на перемещения. Таким образом, рассматриваемую ситуацию необходимо квалифицировать не как уклонение от уплаты налогов, а как избежание налогов (tax avoidance), суть которого состоит в применении законных методов для устранения или уменьшения налоговой обязанности. Впрочем, не следует винить авторов документа в смешении терминов. Разграничение уклонения от уплаты налогов, избежания налогов и прочих смежных категорий в целом представляет нерешенную проблему в теории и практике налогового права (Демин, 2020).
Позднее от идеи сокращения срока пребывания в стране отказались, частично она была реализована только в 2020 г., когда многие россияне не могли покинуть территорию иностранных государств из-за введённых ограничений в связи с пандемией COVID-19. В отношении этого налогового периода была введена возможность добровольно в заявительном порядке признать себя налоговым резидентом РФ при нахождении на территории страны не менее 90 дней в 2020 г. (п. 2.2 ст. 207 Налогового кодекса РФ)4.
Критерий центра жизненных интересов также так и не был установлен. Указанные предложения не были отражены и в аналогичных программных документах в отношении 2021–2023 гг.5
Однако следует признать, что такие тесты, как центр жизненных интересов и постоянное жилище, успешно применяются во множестве государств. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
В качестве центра жизненных интересов Организация экономического сотрудничества и развития (параграф 15 Комментариев к ст. 4 Модельной Конвенции ОЭСР6) предлагает рассматривать в совокупности семейные и социальные связи лица, его занятия, политическую, культурную и иную деятельность, место работы; место, откуда лицо управляет своей собственностью и др. Очевидно, что сами по себе подобные формулировки носят оценочный характер.
С этой точки зрения интересен опыт Казахстана. В Налоговом кодексе Республики Казах-стан7 также установлен критерий центра жизненных интересов, однако он применяется исключительно при одновременном соблюдении трёх условий. Среди них: «1) наличие гражданства Казахстана или вида на жительства; 2) супруг или близкие родственники проживают в Казахстане;
3) наличие в республике недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) супругу (е) и (или) его близким родственникам, доступного в любое время для его проживания или проживания упомянутых лиц»1. Таким образом, налоговое законодательство Казахстана установило дополнительный критерий центра жизненных интересов и избавило его от присущего ему оценочного субъективизма.
Что касается постоянного жилища, то данный критерий также носит оценочный характер. Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (параграф 13 Комментариев к ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР2) под постоянным понимается любое жилище (в собственности или на правах аренды), при этом ключевым критерием при оценке является именно его постоянство, то есть такое жилище должно быть доступно для проживания лица в любое время.
Налоговое законодательство Эстонии устанавливает наличие постоянного жилища в качестве одного из критериев налогового резидентства3. При этом Налогово-таможенный департамент Эстонии придерживается аналогичной ОЭСР позиции: для него постоянство и стабильность являются существенными критериями при определении места жительства. Это означает, что лицо выполнило подготовку и приложило усилия для изменения места жительства, чтобы сделать его постоянно доступным для себя и использовать всё время; а не для краткосрочных целей. При этом отмечается, что сам факт владения недвижимостью автоматически не приводит к получению статуса налогового резидента Эстонии4.
Как видно, данная позиция отличается от толкования, приведенного в письмах ФНС (наличие жилого объекта в собственности или регистрация по месту жительства).
Актуальность вопроса о налоговом резидентстве возросла в 2022 г., когда страну покинуло множество людей. Если большая часть из них не вернется в ближайшее время, они могут потерять этот статус в 2023 г. (либо уже утратили его в 2022 г.), что может привести к значительному падению бюджетных доходов. С другой стороны, ставки НДФЛ для налоговых резидентов РФ являются достаточно низкими по сравнению со многими юрисдикциями (особенно Евросоюза). В связи с этим для граждан, временно покинувших территорию страны, было бы выгодно оставаться налоговым резидентом РФ – в частности, для применения двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, положения которых фиксируют право налогообложения определенных доходов исключительно за государством налогового резидентства лица. Кроме того, сохранение этого статуса дает возможность применения налоговых вычетов – в частности, при продаже имущества.
Следует учитывать и то обстоятельство, что на данный момент возможность дистанционной работы стала нормой для многих профессий, в особенности в высокотехнологичном секторе экономики и сфере оказания услуг. Это дало людям небывалую до этого свободу в определении места, в какой стране им хочется проживать, а в какой – извлекать доход. Возросшая актуальность вопроса не привела к возобновлению обсуждения возможности изменения критериев налогового резидентства. Вместо этого Минфин России разработал другое предложение – признавать доходы от российских организаций, получаемые при выполнении трудовых обязанностей дистанционно, доходами от источников РФ5.
В соответствии с действующей редакцией пп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ6 вознаграждение за осуществление в Российской Федерации трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действий в Российской Федерации признается доходом от российских источников и, соответственно, облагается НДФЛ независимо от статуса налогового резидентства физического лица (то есть по территориальному принципу). При этом под словами «в Российской Федерации» понимается место осуществления работы / оказания услуг / совершения действий, а не статус или место нахождения лица, выплачивающего доход. Так, если в трудовом договоре с российской организацией рабочее место указано как расположенное за пределами РФ, то доход от трудовой деятельности считается полученным за пределами РФ7. В таком случае, если работник не является налоговым резидентом РФ, его доход не подлежит обложению НДФЛ. Для исправления данной ситуации в 2022 г. Минфин России начал разработку соответствующего законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ1. В соответствии с предлагаемой редакцией ст. 208 Налогового кодекса РФ к доходам от источников в Российской Федерации предлагается отнести «вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией»2. В разъяснениях Минфина России к законопроекту приводится, что указанные поправки направлены на исключение практики «неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции»3.
В целом, изменение правил налогообложения доходов дистанционных работников представляется логичным решением. Текущая редакция нормы, привязывающая источник получения дохода к месту выполнения трудовых обязанностей, относится к 2000 г. Маловероятно, что при её формулировании учитывалась повышенная мобильность физических лиц и массовое распространение возможностей дистанционной работы. Представляется, что налогообложение выплат от российских компаний в пользу дистанционных работников отвечает самому смыслу экономической принадлежности (территориальной налоговой привязки) таких доходов к Российской Федерации и направлено на защиту её налогового суверенитета. В то же время при принятии данных изменений резко ухудшится положение дистанционных работников, утративших статус налогового резидента РФ. С доходов таких лиц работодатели будут обязаны удерживать НДФЛ по ставке 30 %. Следует отметить, что в отношении данной проблемы Минфин заявляет, что готов обсуждать сохранение понижения налоговых ставок до уровня установленных для налоговых резидентов РФ4.
С другой стороны, трудно сказать, почему Минфин России отказался от идеи изменения критериев налогового резидентства. С точки зрения фискальной функции это было бы более эффективным решением проблемы, поскольку увеличило бы количество налогоплательщиков и, соответственно, объем поступлений в бюджет. В то же время в современной науке признается, что эффективная налоговая политика не может руководствоваться исключительно фискальными соображениями5. В упомянутых разъяснениях к законопроекту Минфин России подчеркивает, что не намерен изменять критерии налогового резидентства физических лиц: «Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности»6.
Представляется, что несмотря на складывающиеся геополитические условия, тенденции повышения мобильности физических лиц (и речь не только о работниках) будут усиливаться, как и дифференциация места проживания, ведения экономической деятельности, нахождения собственности, государства гражданства и др. В качестве комплексного ответа на указанные тенденции могло бы выступить изменение правил определения налогового резидентства для физических лиц путём добавления новых критериев. При установлении их необходимо исходить из того, что налоговое резидентство должно возникать из реальной, прежде всего социально-экономической связи лица и государства. То есть такие формальные условия, как наличие в собственности жилого имущества, не должны приводить к возникновению налогового резидентства, поскольку сами по себе не создают такой связи. Кроме того, при установлении новых критериев необходимо избегать размытых формулировок, оставляющих налоговым органам большой простор для усмотрения. Для соблюдения принципа правовой определённости такие критерии должны быть сформулированы максимально четко. Так, по аналогии с Казахстаном, в отношении центра жизненных интересов возможно установить условия нахождения близких родственников на территории России, наличия гражданства или вида на жительство. В то же время не рекомендуется использовать в качестве такого условия наличие недвижимого имущества, доступного для проживания в любое время, поскольку лицо может иметь его одновременно в нескольких государствах, что несколько осложнит определение статуса налогового резидентства. Кроме того, здесь идет смешение критериев центра жизненных интересов и постоянного жилища. Что касается последнего, то здесь установление четких условий является более сложной задачей. Ни регистрация по месту жительства, ни иные фактические обстоятельства (например, оплата коммунальных расходов, проживание с определенной периодичностью) не могут безусловно свидетельствовать о стабильности, постоянности проживания. В связи с этим использование такого критерия менее предпочтительно.
Список литературы Налоговое резидентство физических лиц в Российской Федерации: тенденции правового регулирования
- Бондарчук А.Д., Иванов А.В. Некоторые аспекты налогового резидентства в современной России // Новеллы права, экономики и управления - 2021. Гатчина, 2022. С. 135-138.
- Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения. М., 2018. 1086 с.
- Демин А.В. В Tax avoidance. Вопросы семантики и сумрак неопределенности // Налоговед. 2020. № 1. URL: https://e.nalogoved.ru/785690 (дата обращения: 13.02.2023).
- Юлгушева Л.Ш. Перспективы развития института налогового резидентства физических лиц в Российской Федерации // Журнал российского права. 2021. Т. 25, № 3. С. 126-137. https://doi.org/10.12737/jrl.2021.039.