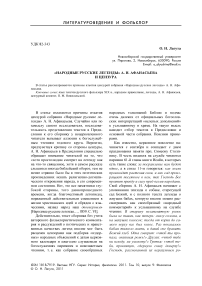«Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева и цензура
Автор: Лагута Ольга Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и фольклор
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины изъятия цензурой собрания «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева.
Язык текстов русского фольклора xix в., народное православие, легенды, а. н. афанасьев, цензурный комитет, п. м. новосильский
Короткий адрес: https://sciup.org/14737611
IDR: 14737611 | УДК: 82-343
Текст научной статьи «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева и цензура
В статье излагаются причины изъятия цензурой собрания «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева. Случайно или по замыслу самого исследователя, последовательность представления текстов в Предисловии к его сборнику у воцерковленного читателя вызывает аллюзии к богослужебным чтениям годового круга. Вероятно, предчувствуя критику со стороны цензуры, А. Н. Афанасьев в Предисловии специально обращает внимание читателей на то, что «хотя простолюдин смотрит на легенду как на что-то священное, хотя в самом рассказе слышится иногда библейский оборот, тем не менее странно было бы в этих поэтических произведениях искать религиозно-догматического откровения народа, в его современном состоянии. Нет, это все памятники глубокой старины, того давнопрошедшего времени, когда благочестивый летописец, пораженный действительным смешением в жизни христианских идей и обрядов с языческими, назвал народ наш двоеверным » [Народные русские легенды…, 1859. С. VI].
Действительно, текст сборника без учета авторского фольклористического комментария и рассуждений о поэтических и нравственных качествах легенд вполне мог быть расценен цензорами как подборка «вздорных» народных объяснений к датам церковного календаря и ежегодно слушаемым на богослужениях паримиям и новозаветным чтениям, т. е. как собрание своеобразных народных толкований Библии и подчас очень далеких от официальных богословских интерпретаций «нелепых дополнений» к услышанному в храме. На такую мысль наводит отбор текстов в Предисловии и основной части собрания. Поясним примерами.
Как известно, церковное новолетие начинается с сентября и совпадает с днем празднования памяти прп. Симеону Столпнику. В честь индикта на службе читаются паримии 61-й главы книги Исайи, в которых есть такие слова: за посрамление вам будет вдвое , а в стихе 11-м говорится: как земля производит растения свои, и как сад произ-ращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и силу пред всеми народами. Свой сборник А. Н. Афанасьев начинает с упоминания эпизода о собаке, стерегущей сад Божий, и с полного текста легенды о жнущих бабах, которую вполне можно рассматривать как своеобразный «народный комментарий» к услышанному на службе чтению: В старину незапамятную рожь была не такая, как теперь: снизу солома, а на макушке колосок; тогда от корня до самого верху все был колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай оне бранить Божий хлеб. Одна говорит: «чтоб ты пропала, окаянная рожь!» Другая: «чтоб тебе ни всходу, ни умолоту!» Третья: «чтоб тебя, проклятую, сдернуло снизу доверху!» Господь, разгневанный их неразумным ро-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © О. Н. Лагута, 2011
потом, забрал колосья и начал истреблять один за другим. Бабы стоят да смотрят. Когда осталось Богу выдернуть последний колос - сухощавый и тщедушный, тогда собаки стали молить, чтобы Господь оставил на их долю сколько-нибудь колоса. Милосердый Господь сжалился над ними и оставил им колос, какой теперь видим [Народные русские легенды…, 1859. С. VIII] (здесь и далее в иллюстрациях приведены пунктуация и словораздел оригинала. – О. Л. ).
Легенда о житном зерне [Там же. С. VIII– IX], связанная с темами благоденствия и долгожительства, содержательно соотносится с другими чтениями того же дня. На новолетие читается 26-я глава книги Левит: Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле [вашей] безопасно <.. .> и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового (стихи 3-12); и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли [вашей] не дадут плодов своих (стих 20) . В этот же день на церковной службе читается и текст 4-й главы книги Премудрости Соломона, для которой темы возраста, долгожительства, праведной и добродетельной жизни важны, как и для легенды о житном зерне. Но долгожительство в ветхозаветном тексте интерпретируется иначе, чем в легендарном: А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь - возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми
Его и промышление об избранных Его (стихи 7–15). В последующих стихах, 16-м и 17-м, говорится, что праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность - долголетнюю старость неправедного; ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Текст легенды о житном зерне развивает те же темы немного иначе: долгоденствие и изобилие плодов земных – это награда за соблюдение десятой заповеди: Был-жил какой-то царь, ездил-гулял по полям с князьями и боярами, нашел житное зерно величиной с воробьиное яйцо. Удивился царь, собрал князей и бояр, стал спрашивать: давно ли это жито сеяно? Никто не ведал, не знал. И придумали взыскать такого человека из старых людей, который мог бы про то сказать. Искали-искали и нашли старика - едва ходит о двух костылях; привели его к царю и стали спрашивать: кем сеяно это жито и кто пожинал? - Не памятую, отвечал старик: такого жита я не севал и не знаю; может, отец мой помнит. Послали за отцом, привели к царю об одном костыле. Спросили о зерне; он тоже говорит: «я не севал и не пожинал; а есть у меня батюшка, у которого видел такое зерно в житнице». Послали за третьим стариком; будет ему от роду сто семьдесят годов, а пришел к царю легко, без костыля, без вожатых. Начал его царь спрашивать: «кем это жито сеяно?» - Я его сеял, я и пожинал, сказал в ответ старец, и теперь у меня есть в житнице; держу для памяти! Когда был я молод -жито было большое да крупное, а после стало родиться все мельче да мельче. -Спросил еще царь: «скажи мне, старик! отчего ты ходишь легче и сына и внука?» «Оттого, сказал старец, что жил по-Божьему: своим владел, чужим не корыстовался» [Народные русские легенды..., 1859. С. VIII–IX].
Пятого сентября по ст. стилю Церковь празднует день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. А. Н. Афанасьев вводит в Предисловие третьим текстом следующий: Ивановский светящийся жук керсница (kers-nica) пользуется у словенцев особенною любовью за то, что летал по дому родителей Иоанна Предтечи и освещал колыбель святого младенца [Там же. C. IX]. Восьмого сентября отмечается Рождество Богородицы, первый праздник Богородичного круга, и четвертая легенда Предисловия – о важнейшем Богородичном празднике Благовещения: Когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве, что от нее родится божественный Искупитель, - Она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду; это однобокая камбала [Народные русские легенды…, 1859].
После Рождества Христова 29-го декабря по ст. стилю Церковь вспоминает «мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных», и на службе читается 2-я глава Евангелия от Матфея: Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов (стихи 13–23). В тексте Предисловия к афанасьевскому собранию упоминаются события избиения младенцев Иродом: Когда родился Христос и начались гонения Ирода, Богоматерь положила Божественного Младенца в ясли и прикрыла Его сеном. Прожорливая лошадь всю ночь ела корм и беспрерывно открывала убежище Спасителя; а вол не только перестал есть, но еще собирал разбросанное сено рогами и набрасывал его на Младенца. Бог проклял лошадь за ее жадность, а вола благословил; отто-го-то лошадь постоянно жрет и никогда не насыщается; оттого-то вол употребляется человеком в пищу, а лошадь нет [Там же. С. X].
Три следующие легенды Предисловия повествуют о путешествиях Христа и по содержанию прямо соотносятся с евангельскими чтениями о миссионерстве Иисуса и учеников, в частности со чтениями о чудесной находке в рыбе, ср.: У моряков есть поверье, будто два черные пятна, видимые на жабрах трески, произошли от того, что апостол Петр взял ее двумя пальцами, когда вынимал из рта рыбы монету для уплаты подати [Там же] и Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны свободны; но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя (17-я глава Евангелия от Матфея, стихи 24–27). Сам А. Н. Афанасьев, ссылаясь на статью Максимовича, отмечал в сноске в Предисловии, что «особенно дни от Пасхи до Вознесения почитаются временем таких странствий Спасителя» [Там же. С. XXVI]. Текст следующей легенды соотносится с описаниями Страстных событий в 27-й главе Евангелия от Матфея, включенной в чтения Пассий и звучащей в храмах в канун и на службах Великой пятницы. Легенды о Спасителе Афанасьев прокомментировал очень бережно: «По народным сказаниям, Спаситель вместе с апостолами и теперь, как некогда – во время земной своей жизни, ходит по земле, принимая на себя страннический вид убогого; испытуя людское милосердие, он наказует жестокосердых, жадных и скупых и награждает сострадательных и добрых. Это убеждение, проникнутое чистейшим нравственным характером, основано на том, что Спаситель о делах любви и милосердия к нищей братии проповедал как о делах любви и милосердия к Нему самому» [Там же. С. XV–XVI]. В подтверждение своих слов составитель собрания привел прямую цитату из евангельского текста на церковнославянском языке – известные стихи 34–40 из 25-й главы Евангелия от Матфея.
Легенды, сказки и былички в основной части собрания тоже имеют сюжетные, мо-тивные и / или частные символико-языковые соответствия с паримийными и новозаветными чтениями. Например, 9-го сентября (дата, близкая к индикту) отмечают день памяти Иосифа Волоцкого, и из паримий-ных чтений преподобному (3-я главы книги
Премудрости Соломона) прихожане слышали: Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю (стихи 4-8). В легенде «Чудесная молотьба», открывающей афанасьевский сборник, тоже присутствует символический образ очищения огнем: Поутру рано стали хозяйские сыновья собираться хлеб молотить. Вот Спаситель и говорит: «пустите, мы вам поможем за нос(ч)лег, помолотим за вас». - Ладно, сказал мужик; и давно бы так! лучше чем попусту без дела слоняться-та!» Вот и пошли молотить. Приходят, Христос и гутарит хозяйским сыновьям: «ну, вы разметывайте адонье, а мы приготовим ток». И стал он с апостолами готовить ток по своему не кладут они по одному снопу в ряд, а снопов по пяти, по шести, один на другой, и наклали почитай целое поладонье. «Да вы такие-сякие совсем дела не знаете!» заругались на них хозяева; «зачем наложили такие вороха?» - Так кладут на нашей стороне; работа, знашь, от того спорее идет, сказал Спаситель и зажог покладенные на току снопы. Хозяева ну кричать да браниться, дискать весь хлеб погубили Ан погорела одна солома, зерно осталось цело и заблистало в большущих кучах крупное, чистое да такое золотистое! [Народные русские легенды…, 1859. С. 3–4]. В 7-й главе Евангелия от Иоанна, читаемой в неделю Святой Пятидесятницы, говорится: Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук (44-й стих), а также Кто верует в Меня, у того, как сказано в писании (в 3-м стихе 12-й главы книги Исайи и в 18-м стихе 3-й главы книги Иоиля. - О. Л. ) , из чрева потекут реки воды живой (стих 38). В тексте «Петух и жорновки» находим описание чудесного петушка, заливающего огонь в печи выпитой в колодце водой и спасающегося от жадного и злого барина-вора [Там же. С. 109–111]. Подобных соответствий содержания легендарных и прочих текстов собрания содержанию паримийных и новозаветных чтений очень много, и афанасьевский сборник можно считать своеобразным «народным паримийником».
Трудно утверждать, что Афанасьев ставил перед собой цель представить легендарные произведения в той же последовательности, в какой представлены тексты с аналогичными сюжетами в сборниках богослужебных чтений, но, безусловно, он понимал, что из объемного прозаического религиозного фольклорного наследия дополнительную устойчивость и воспроизводимость приобрели именно подобные «дополнения» к ветхо- и новозаветным историям, читавшимся во время богослужений. Богослужебные чтения могли «провоцировать» сказителей, посетивших литургию, на «активизацию» определенных сюжетных частей легендарного репертуара перед слушателями.
Однако объяснения Афанасьева в Предисловии о необходимости публиковать собрание «Народные русские легенды» были услышаны в цензурном комитете лишь частично. В России книга была издана в самый сложный для отечественной фольклористики период – в 1859 (1860) г. – время разгара цензурной реакции и, одновременно, подготовки цензурной реформы. Весь российский тираж собрания был изъят.
Дело в том, что в предшествующий период особыми цензурными циркулярами был наложен строжайший запрет на открытые публикации исследований по словесному и изобразительному фольклору. Так, с 1850 г. была установлена жесткая цензура лубков, поскольку «значительная часть сих картин, касаясь предметов духовного содержания, заключает в себе разные толкования, которые, если картины писаны людьми, принадлежащими к раскольническим сектам, могут иметь иногда и вредное влияние, в особенности на необразованных сельских обывателей» (цит. по: [Лемке, 1904а. С. 260]). Кроме того, от издателей требовалось, чтобы любые упоминания библеизмов и библейских персонажей в религиозных и светских публикациях сопровождались точными ссылками на тексты Ветхого и Нового Заветов [Там же]. Председатель Императорской археографической комиссии и Второго отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской Академии наук, министр просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов представил Николаю I пространный доклад, в котором говорилось: «Всего полезнее было бы для правительства поощрять чтение не гражданской, а церковной печати, так как первого рода книги представляют в большинстве случаев (особливо относительно так называемого “легкого чтения”) лишь совершенно бесполезное и вредное занятие; …книги духовного содержания укрепляют простолюдина верою и упованием на святой промысел к новым трудам и к благодушному перенесению всякого рода лишений, между тем как книги светские рассеют его только на время, но в то же время ослабят его деятельность и терпение» (цит по: [Лемке, 1904а. С. 257]). Доклад министра был высочайше утвержден.
Об очень настороженном отношении цензурного комитета к публикациям фольклорных произведений свидетельствуют и письма председателю петербургского цензурного комитета другого министра просвещения А. С. Норова (преемника П. А. Ши-ринского-Шихматова), по своей должности возглавлявшего с 1849 г. цензуру и писавшего в 1853 г. о том, «что российские губернские ведомости в соответствии с программой, высочайше утвержденной еще 1838 г., должны были отводить место изучению этнографии края. Конечно, и отводили, но сколько по этому поводу было неприятностей… Для примера укажу на статью в “Курских губернских ведомостях” (1853 г., № 11. - О. Л.), посвященную описанию народных игр, загадок, анекдотов и присловья жителей Суджанского и Рыльского уездов». «Собрание и обнародование подобных материалов, – писал А. С. Норов председателю петербургского комитета, – живых памятников старины и преданий – весьма полезно и достойно всякого поощрения, так как, кроме занимательности своей, они иногда объясняют обычаи, нравы и нередко сами исторические события, но при всем том едва ли следует допускать печатание без разбора, а тем более в губернских ведомостях всего, что сохранилось в изустном предании, в особенности же, если им нарушаются добрые нравы и может быть дан повод к легкомысленному или превратному суждению о предметах священных. В сих видах, при чтении вышеуказанной статьи, внимание остановилось на следующих загадках: 1. Родился - не крестился, умер - не спасся, богоносцем был (осел). 2. На свете жил и Богу служил, а умер ни в святых, ни в грешных (то же). 3. Вышел дед, семьдесят лет, вынес внучат старше себя (Евангелие). Хотя эти загадки действительно в народе существуют и собираются с полезной целью, но, по неприличию их, в 15 день сего апреля последовало высочайшее повеление: принять зависящие меры к отклонению на будущее время пропуска цензурою преданий подобного рода, которых, конечно, нет никакой пользы сохранять в народной памяти через печать. Вследствие сего я покорнейше прошу Ваше превосходительство предложить как цензирующим неофициальную часть губернских ведомостей вверенного Вам, милостивый государь, округа, так и петербургскому цензурному комитету, чтобы при допущении к печати народных преданий они руководствовались вышеизложенными соображениями» (цит. по: [Лемке, 1904б. С. 294]). В 1854 г. в «Саратовских губернских ведомостях» были помещены народные песни, в содержании которых цензурный комитет нашел «колебание нравственности»: саратовскому губернатору М. И. Кожевникову был сделан выговор (и в том же году он оставил губернаторский пост), цензиро-вавшего газету директора гимназии было указано «выдержать месяц на гауптвахте и спросить министра: “благонадежен ли он продолжать службу?” Но по ходатайству А. С. Норова директор был прощен: ему велено было одновременно объявить месячный арест и помилование». В том же году А. С. Норов писал в комитет о книге Ф. И. Буслаева «Русские пословицы и поговорки»: «В этом, впрочем, во всех отношениях любопытном и достойном уважения труде найдены, однако же, совершенно неуместными следующие пословицы: Дети отца бьют -в запас идут. Мила жена, как к венцу ведут да как вон несут. Слава Богу! батюшку с матушкой схоронил, как с поля убрал ... Во исполнение объявленного мне по этому случаю высочайшего повеления, последовавшего в 20-й день сего мая, я покорнейше прошу Ваше превосходительство вменить в обязанность цензорам вверенного Вам, милостивый государь, учебного округа, чтобы впредь они не пропускали в печать подобных поговорок, которые, едва ли имея какое-нибудь общее в народе распространение, столь противны общему патриархальному чувству нашего народа и которые, если они и существуют действительно в какой-нибудь местности, не может, конечно, быть полезно оглашать и вводить через печать как бы в общее употребление» (цит. по:
[Лемке, 1904б. С. 299]). Но, пожалуй, наиболее ярким примером цензурного рвения того периода можно считать инцидент с изданием «Параллельных словарей языков русского, французского, немецкого и английского, для употребления русского юношества…» [Рейф, 1842–1849]: из толкований слов религиозной, фольклорной и политической тематики механически изымались как «непристойные» семантические переводные несоответствия. Например, слово Litanej , переведенное составителем словарей как ‘лития, молебен, скучный рассказ’, после вмешательства цензоров утратило третье значение. О последствиях перевода учащимися Litanej в значении ‘скучный рассказ’ как лития трудившийся над словарем цензор, видимо, не задумывался.
О том, насколько сильным было влияние цензуры на публикации фольклорных религиозных произведений и фольклористических трудов, свидетельствует также лексический состав текстов другого собрания легенд, сказок и быличек, имеющих сюжеты, аналогичные сюжетам текстов афанасьевского собрания. Речь идет о дозволенном цензурой к распространению сборника 1861 г. «Русские простонародные легенды и рассказы», подготовленного анонимным составителем и посвященном П. М. Новосильско-му – участнику первой русской антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, впоследствии вышедшему в отставку и работавшему в Министерстве внутренних дел директором департамента духовных дел иностранных исповеданий, а в последние годы жизни – цензором Петербургского цензурного комитета. «Как цензор, “не в меру осторожный”, Новосильский имел у издателей и редакторов далеко не положительную репутацию, хотя, как писал редактор “Журнала для воспитания” А. Чу-миков, “с ним, несмотря на его превосходительный чин, еще можно было объясниться. Не так-то легко было добиться этого от знаменитого автора “Обломова”» [Шилов, 1995] (И. А. Гончаров, по странному совпадению жизненных обстоятельств, вернувшись, как и П. М. Новосильский, из кругосветного путешествия, работал цензором в то же время и оставил этот пост в 1860 г.).
В текстах анонимного сборника 1861 г., посвященного П. М. Новосильскому и разрешенного цензурой, отсутствуют слова, которые могли бы привлечь внимание бдительных членов комитета: аминь, аналой, икона, образ, лампадка, келья; просвира и его производные просвирка, просвирочка (вместо них использована лексема булка); Писание, по-Божьему, теонимы Господь, Иисус, Спаситель, Святый; ангелогимы ангел и др., агионимы апостол, святой, Никола, Егорий, угодник, скитник, пустынник; а также другие слова различной тематической принадлежности: спасаться, спасение, замолить, открестить, отчитать, отчитывать, божиться, выбожить, забожить-ся; благодать, промысел, житие, рай; приход, церковный, церковь, священник, поп, попов, поповский и т. д., в том числе единицы, описывающие волшебный иномир: ведьма, ворожец, ворожить, гадать, колдовство, порча и т. д. Все эти лексемы встречаются в легендах с теми же сюжетами в афанасьевском собрании. В то же время ряд наименований с демонологической семантикой (бес, чертенок, ад и т. д.) вводится в анонимном сборнике чаще, чем в аналогичных текстах афанасьевского собрания. В 3 раза реже по сравнению с легендами этого собрания в анонимном сборнике встречается слово царь, в 5 раз – царство, в 2 раза – царский [Лаврентьев, Лагута, 2005. С. 240, 248].
Как видим, произведения фольклорной религиозной прозы только с таким лексическим обликом имели шансы быть опубликованными без последствий, причем немалую роль в удачном решении вопроса, скорее всего, сыграло и наличие высокопоставленного покровителя. Тем не менее, собрание А. Н. Афанасьева смогло пройти духовную цензуру на этапе допуска к публикации, возможно, благодаря чрезвычайно деликатному подходу составителя к отбору и комментированию фольклорного материала, бережному отношению к религиозно-нравственному канону и прямому цитированию Евангелия. Но после публикации некоторые духовные и светские лица, ревностно исполнявшие обязанности цензоров, вполне могли оценить сборник не только как богохульный по содержанию, но и как кощунственно пародировавший служебные пари-мийники и собрания евангельских и апостольских чтений.
Столь непростая ситуация во взаимоотношениях фольклористики и духовной цензуры начала постепенно меняться к лучше- му после 1860 г. Например, как закономерное следствие реформирования деятельности духовных цензурных комитетов в церковной периодике появился журнал «Руководство для сельских пастырей», в котором печатались «разнообразные статьи, материалы, интересные для священнослужителей и прихожан. Публиковались всякого рода наставления, советы и замечания, помогающие пастырю при богослужении, при совершении таинств и треб, во внецер-ковных взаимоотношениях с верующими, неверующими, иноверцами, староверами и сектантами. Большое внимание обращалось на своеобразие народного православия, сохраняющего массу всевозможных предрассудков, суеверий, дохристианских обычаев и обрядов. Подобные реликты языческого мышления, по мнению многих авторов заметок, чужды духу христианства, и с ними необходимо бороться, но не прямым запретом (выделено нами. – О. Л.), а методом убеждения крестьян в абсурдности того или иного суеверия, обычая, раскрывая историю их возникновения, изначального смысла. Среди работ по народному православию особенного внимания заслуживает цикл серьезных научных статей Г. Булашева, В. Маврицкого, П. Озерецкого, П. Поспелова и др. В целом можно говорить о довольно высоком уровне многих публикаций в журнале, о знании их авторами современной им научной литературы» 1. Если бы собрание
Розов А. Н. Этнографические и фольклорные материалы на страницах журнала «Руководство для сельских пастырей» (1860–1917 гг.). Аннотированный тематико-библиографический указатель // http://ruthe-nia.ru/folklore/rozov1.htm
«Народные русские легенды» было опубликовано на пять лет позже, возможно, его судьба была бы не столь трагичной.