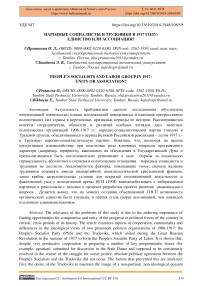Народные социалисты и трудовики в 1917 году: единство или ассоциация?
Автор: Протасова О.Л., Бикбаева Э.В.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 11 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность проблематики данного исследования обусловлена непреходящей значимостью поиска возможностей компромисса и единения прогрессивных политических сил страны в переломные, кризисные периоды ее истории. Рассматриваются аспекты сотрудничества, общности и различий идейных взглядов двух заметных политических организаций 1906-1917 гг.: народно-социалистической партии (энесов) и Трудовой группы, объединившихся в период Великой Российской революции - летом 1917 г.- в Трудовую народно-социалистическую партию. Показано, что, несмотря на весьма продуктивное взаимодействие при подготовке ряда ключевых вопросов программного характера (например, аграрного), выносимых на обсуждения в Государственной Думе и предполагавшихся быть последовательно решенными в ходе борьбы за социальную справедливость, абсолютного согласия в политическом отношении народные социалисты и трудовики не достигли. Анализируются факторы, помешавшие этому: сначала желание трудовиков сохранять имидж внепартийной, внеидеологической крестьянской фракции, затем крайне затруднительные условия для открытой оппозиционной деятельности и фактический уход с политической арены НСП (1908- взаимодействовать с либеральными партиями и разногласия с энесами в процессе разработки проекта решения национального вопроса. Делается вывод, что на момент создания объединенной ТНСП возможность органического единства была упущена, и партия стала скорее ассоциацией, чем командой подлинных единомышленников.
Трудовая группа, народно-социалистическая партия, государственная дума, крестьянство, аграрный вопрос, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/14131597
IDR: 14131597 | УДК: 947 | DOI: 10.33619/2414-2948/108/59
Текст научной статьи Народные социалисты и трудовики в 1917 году: единство или ассоциация?
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 947
Летом 1917 г. партийная система России пополнилась новой организацией — Трудовой народно-социалистической партией (ТНСП). Этот политический субъект явился объединением двух политических сил, известных своей деятельностью с времен I русской революции и первых Государственных Дум — народно-социалистической партии и Трудовой группы. Обе они получили свое организационное оформление в 1906 г.
Чем было это единение — полным организационным слиянием искренних идейных союзников или тактическим альянсом на ассоциативных началах довольно-таки разнородных сил? Если верен первый вариант, то почему объединение не произошло раньше? Если второй, то почему трудовики предпочли именно народных социалистов, а не кадетов или эсеров, у которых, казалось бы, более основательный политический «капитал»? С обеими этими партиями у трудовиков имелся опыт сотрудничества, и достаточно успешный; ни эсеры, ни кадеты не теряли внутрипартийных связей в межреволюционные годы, как народные социалисты, фактически утратившие единство своей организации в период т.н. «третьеиюньской монархии», и всегда имели значительное число сторонников среди населения.
Хотя и трудовики, и народные социалисты в постсоветские десятилетия удостоились внимания историков и получили более объективные оценки, нежели ранее от советской историографии, вопрос о их пути к организационному альянсу, характере их сотрудничества и конечном результате совместной деятельности, сам по себе достаточно интересный и непростой, до сих пор занимал в исследованиях второстепенное место. Насколько органичен был этот союз? Насколько вовремя он был заключен? На эти вопросы мы постараемся ответить в настоящей статье, рассмотрев последовательно все этапы и особенности взаимодействия народных социалистов и трудовиков.
Материал и методы исследования
Материалами для данного исследования служат статистические источники думского периода, впечатления и воспоминания свидетелей и участников энесовско-трудовической коллаборации, а также работы современных историков, посвященные Трудовой группе и ТНСП. Особую ценность представляют собой дошедшие до нас (ныне архивные) документы — протоколы заседаний центрального и местных комитетов НСП – ТНСП, листовки и воззвания, обращенные к предполагаемому электорату во время выборных кампаний в органы местного самоуправления и Всероссийское Учредительное собрание (1917), публицистические произведения энесов и трудовиков.
Исследовательские методы, применяемые в статье – биографический, контент-анализ источников и исторической литературы, компаративный (сравнение и сопоставление), анализ, синтез.
Результаты и обсуждение
До начала ХХ века Россия не имела опыта массового организованного гражданского активизма. Социально-экономическая модернизация, происходившая в евроазиатской империи после отмены крепостного права форсированными темпами, повлекла за собой, вместе с заметным ростом общей культуры, сдвиги в политическом сознании значительной части населения. Все более широким, демократичным становится представительство сословий и прочих социальных сегментов в управленческих, хозяйственных структурах разного уровня. С появлением на рубеже столетий политических партий разделяемые ими идеологии начинают проникать в народную гущу. Стараниями социалистов – марксистов и неонародников, ведущих пропагандистско-агитационную работу среди рабочих и крестьян – в ранее инертном сознании «простонародья» крепнет уверенность в возможности переустройства общества в лучшую сторону собственными силами, посредством организованной борьбы с несправедливостью и произволом властей. Первая реальная возможность такого законного «наступления» на абсолютизм была предоставлена I Государственной Думой. Пожалуй, самой главной сенсацией долгожданного российского парламента стало появление на политической арене крестьян, не просто «пробравшихся» в думские стены, но проявивших там себя неожиданно ярко и независимо, нисколько не рефлексировавших среди многоопытных политиков «из образованных», последовательно отстаивавших, насколько позволяла политическая конъюнктура, свои интересы и самостоятельно выбиравших себе тактических союзников. Самым устойчивым, хотя и непростым, оказался союз с умеренными (эволюционными) народниками.
Народно-социалистическая партия сформировалась после учредительного съезда ПСР (25 декабря 1905 – 2 января 1906), где выявились кардинальные разногласия эсеров и группы журнала «Русское богатство», представленной на съезде А. В. Пешехоновым, В. А. Мякотиным, Н. Ф. Анненским и П. Ф. Якубовичем, относительно решения аграрного вопроса, характера партийной организации и методов борьбы с властным произволом. В отличие от социалистов-революционеров, ратовавших за социализацию земли, будущие энесы настаивали на ее национализации, не считали возможной нелегальную деятельность, поскольку единственно эффективной полагали лишь открытую политическую арену. Столь принципиальный характер несходства взглядов эсеров и народных социалистов на ключевые вопросы программы и тактики делают сомнительной утвердившуюся в советской историографии точку зрения, что последние — не кто иной, как отколовшееся от ПСР ее правое крыло.
Трудовая группа при своем появлении на парламентской арене явилась феноменом для многих неожиданным. Неожиданным не столько потому, что само по себе присутствие крестьян в столь высоком представительстве, как законодательный орган, было делом для Российской империи непривычным, но и, главным образом, из-за количества и «качества», а точнее, деловых и гражданских качеств деревенских депутатов. В неонароднической среде (а именно неонародники — эсеры и будущие народные социалисты были основными проводниками крестьянских запросов и настроений в публичной политике) во время выборов в I Государственную Думу разошлись мнения о целесообразности участия партий в избирательной кампании. Противники участия в выборах были скептически настроены относительно возможностей продвижения левых в парламент. Их нарекания вызывал готовившийся к выходу избирательный закон, по которому Дума должна была избираться на основе классового и цензового права [1, с. 47]. Борьба вокруг участия в выборах стала особенно острой после 11 декабря 1905 г., когда закон наконец вышел и оказалось, что о демократической избирательной системе по-прежнему приходилось лишь мечтать. Избиратели делились на курии — землевладельцев, горожан, крестьян и рабочих. Ни для кого из них голосование не были прямым; из требуемой «четыреххвостки» (выборы всеобщие, тайные, прямые, равные) осуществлялся лишь один компонент — тайна подачи голосов. Среди идеологов умеренного неонародничества наиболее категорично выступали за бойкот выборов А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, Н. Ф. Анненский [1] — центральные фигуры будущей народно-социалистической партии.
Те, кто выступил за участие, предвидели неплохой потенциал крестьянского сословия «поставить» своих представителей в законодательный орган и тем самым значительно демократизировать его характер [2, с. 77]. Следовательно, считали сторонники участия в выборах, опытным политикам-интеллигентам нужно быть рядом, чтобы стать руководящей силой, направлять деятельность депутатов-крестьян, помогать им отстаивать свои интересы, оформлять, артикулировать законодательные инициативы. К таким «оптимистам», количество которых на сей раз уступало числу скептиков, принадлежали члены организационного комитета будущей народно-социалистической партии — этнограф, исследователь Крайнего Северо-Востока В. Г. Богораз-Тан и врач, писатель С. Я. Елпатьевский. Они активно возражали против бойкота и в результате оказались правы: депутаты от крестьянства составили в Думе солидную внепартийную фракцию числом 102 человека, получившую название «Трудовая группа».
Уже ход избирательной кампании показал, что крестьяне, приятно удивившие наблюдателей-народников резко возросшей за несколько лет сознательностью и собственным взглядом на общественный порядок, который надлежит, по их мнению, установить, стремятся провести в Думу своих истинных, «демократических», представителей — не служилый элемент (старост, волостных писарей и пр.), не наиболее зажиточных хозяев, использующих наемных работников, а тружеников, самостоятельно ведущих хозяйство, притом обладающих твердым характером, способных отстаивать интересы своего сословия, класса [3, с. 7].
Выбирали грамотных (или даже образованных) крестьян; хорошие шансы получить народную поддержку были и у тех, кто испытал преследования со стороны властей, «пострадал за мир». Критерием для отбора «своих» служило определение политических взглядов: «левее к.-д.» — это был специфический термин, возникший в период избирательной кампании в I Думу. Самоидентификация кандидатов чаще всего содержала либо эту аттестацию, либо скромное «беспартийный» [3, с. 10]. По свидетельству будущего трудовика В.В. Водовозова, политическое самоопределение тех, кто еще не выбрал себе партию, обусловливалось разными соображениями. Так, сам он не мог вступить в партию социалистов-революционеров, так как был противником террора, «не мог пойти к эсдекам, поскольку его «возмущали их узость, догматизм, непонимании аграрного и национального вопросов» (последнему он придавал большое значение). Не был согласен он и с классовой теорией — идеологическим столпом социал-демократов — марксистов. От кадетов его отталкивали «буржуазный социальный состав» и, что еще важнее, недостаточно решительная тактика политической борьбы и лояльность к монархической форме правления [1, с. 43-44].
К слову, впоследствии, во времена III и IV Дум отношения Водовозова с идеологами Партии народной свободы стало остро конфликтными, причем именно по политическим мотивам.
Одним из первых предвыборных блоков, организованных будущими трудовиками, был инициированный саратовским кандидатом в депутаты С. В. Аникиным (впоследствии он стал одним из лидеров Трудовой группы) «союз трудящихся». Этот союз имел целью объединить, наряду с курией выборщиков-крестьян, тех из горожан и землевладельцев, которые сочувствовали крестьянской платформе и соглашались вступить в этот «трудовой» союз. Первый опыт такой коалиции оказался более чем успешным: из десяти мандатов, предоставленных Саратовской губернии, лишь два были отданы кадетам, остальные восемь распределились между крестьянами и представителями других «трудящихся» — учителями, железнодорожными служащими, писателями и адвокатами, отстаивавшими интересы трудового элемента. На сходных началах, в союзе крестьянства и демократической интеллигенции, проводились выборы и в ряде других губерний: Курской (депутаты «левее к.-д.» получили 6 мест из общего количества в 10 мандатов), Черниговской (также 6 из 10), Полтавской (5 из 12), Казанской (4 из 9), Екатеринославской (5 из 9), Орловской (5 из 8), Пензенской (4 из 6) и др. В ряде губерний не было вариантов создания подобных блоков городской и земледельческой среды, и почти все места достались выходцам из крестьянства, которые оказались на тот момент самыми левыми из всех претендентов на депутатские мандаты. Так произошло в Тамбовской, Подольской, Ставропольской губерниях [3, с. 11].
Когда персональный состав парламента стал известен, будущие лидеры трудовиков еще до начала думских заседаний начали планировать свою тактическую линию. Инициативную группу составили те, кто ранее уже имел опыт сотрудничества в рамках Всероссийского крестьянского союза (ВКС). В Петербурге по адресу Невский проспект, 110 (недалеко от Николаевского вокзала) было специально снято помещение для того, чтобы прибывающие в столицу крестьянские депутаты могли как можно скорее познакомиться друг с другом в этом импровизированном «клубе». Там же проходили совещания о том, как провести дело в Думе. По признанию самих народных избранников, поначалу их деятельность представлялась им не вполне определенно, и одним из самых сложных вопросов был вопрос взаимоотношений с государственным строем [4, с. 5], который Дума ставила целью реформировать: как соблюсти меру в выставляемых власти требованиях, чтобы их выполнение оказалось реальным. Первоначальное намерение ограничиться сплочением представителей одного лишь крестьянского сословия вскоре сменилось более широким, демократическим мнением (особенно последовательно оно проводилось саратовскими депутатами Жилкиным, Аникиным, Бондаревым): в группу следует принимать не только крестьян, но и фабричнозаводских рабочих, интеллигентных тружеников — всех, кто живет личным трудом и может проникнуться интересами трудящихся. Отсюда и название группы — не Крестьянская, как полагали вначале, а Трудовая. Отметим, что такой подход к определению «целевой аудитории» в лице всего трудового народа — чисто народнический: неонародники, ни радикальные, ни умеренные, в отличие от марксистов, не делили трудящихся на сегменты по степени полезности для революции.
Вот как сами трудовики в популярной форме объясняли свое отношение к «левым» и «правым» в политическом спектре: «левыми называются те, кто стоит за народ, за свободу, за новые порядки — против всех угнетателей народа. Правыми называют тех, кто стоит за старые порядки» [5, с. 3]. Из этих слов всем должно было стать ясно, что Трудовая группа — организация безусловно «левая». Один из идеологов трудовиков, Л. М. Брамсон, подчеркивал, что ее программа «составлялась самой жизнью» и слагалась из требований, доносившихся со всех концов страны до русского парламента через сельские «заказы» из разных мест, через заявления «ходоков» и т.п. Таким образом, по его словам, программные идеи Трудовой группы с полным правом могли быть аттестованы как результат народного творчества, как «народный социализм» [3, с. 4].
Для того, чтобы подчеркнуть преимущественно крестьянский характер состава Трудовой группы и ее тесную связь с землей, при разработке думской тактики было решено поставить на первое место в ее платформе, после требования амнистии, земельный вопрос. Законопроект об аграрной реформе, по замыслу трудовиков, нужно было внести на обсуждение в безотлагательном порядке. В конце апреля – первой половине мая 1906 г. комиссия в составе 30 человек, среди которых, помимо крестьянских депутатов, были ведущие неонароднические идеологи – А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, Н. Ф. Анненский, В. М. Чернов и др., разрабатывала земельный законопроект и другие разделы платформы трудовиков [6, с. 74]. Главным пунктом земельного закона было признание необходимости использования земельных фондов исключительно по сельскохозяйственному назначению, следовательно, земледельческое население должно было получить «преимущество перед неземледельческим»: земля должна была находиться в руках лишь тех, кто обрабатывает ее своим трудом, без эксплуатации чужой рабочей силы.
По свидетельству очевидцев, в этот период и кадетами предпринимались попытки привлечь на свою сторону трудовиков, но социальная дистанция между первыми и вторыми была слишком велика для того, чтобы пересилить влияние более близких и понятных выходцам из деревни народников. К сожалению, из-за «дружного» и, как выяснилось, нерасчетливого решения о бойкоте Думы левых партий, единственно возможным союзником трудовиков в парламенте первого созыва должны были стать именно кадеты, для которых, по мнению народников, аграрный вопрос был одним из самых трудных (и, соответственно, недостаточно проработанных) в программе: по большей части выходцы из материально благополучной городской среды, они не могли, так сказать, органически вжиться в чаяния и интересы крестьянского мира. Оказавшись в роли своеобразных «покровителей» трудовиков в Думе, кадетские депутаты, ранее не имевшие опыта близкого общения с выходцами из деревни, были поражены смекалкой, напором и (самое для них удивительное) неожиданной компетентностью крестьянских парламентариев, среди которых оказалось много ярких и самобытных ораторов, энергичных организаторов, талантливых политиков. Настоящими «звездами» Думы стали А. Ф. Аладьин, С. В. Аникин, И. В. Жилкин, С. И. Бондарев, Т. В. Локоть, Л. М. Брамсон и др. Их речи как во время предвыборной кампании, так и на думской трибуне производили сильное впечатление не только на их электорат, но и на внепартийных выборщиков из городских курий. Вместо «серой массы» в Думе оказалась сплоченная группа единомышленников, отказавшаяся принять на себя роль ведомых искушенными в правовых вопросах либералами, и осознавшая свою моральную силу. У трудовиков появились и свои периодические издания — «Трудовой народ» и «Известия крестьянских депутатов».
Хотя эсеры и народные социалисты впоследствии и заявляли, что не считают бойкот I Думы ошибкой [7, с. 42], на наш взгляд, это было не что иное, как, образно выражаясь, «хорошая мина при плохой игре». Спустя время один из самых решительных бойкотистов — В. А. Мякотин был вынужден признаться, что ему пришлось раскаяться в своем увлечении «левизной»: политическая жизнь с ее страстями в 1906 г. сосредоточилась не в партийном закулисье, а именно на думской арене. Первый раунд конкурентной борьбы между революционными (эсеры) и эволюционными (будущие энесы) неонародническими партиями развернулся как раз в период перводумья, и объектом этой конкуренции были крестьянские депутаты – трудовики, чью симпатию и доверие стремились завоевать и те, и другие.
Народный социалист В. Г. Богораз-Тан входил в журналистский корпус I Государственной Думы. Он имел возможность наблюдать за всем происходящим в парламенте, оценивать персональный состав, находить интересные типажи. Особенно интересовали его трудовики: «Они склонны называть вещи их собственными именами. Не дразните их сверх меры… Чего доброго, засучат рукава и подадут сигнал к всенародной драке» [8, с. 3], — с восторгом передавал настрой крестьян-думцев Тан.
Обсуждение трудовического проекта о земле стало процессом непростым, при том, что первостепенная значимость его была признана всеми. Депутаты из центральной и восточной России, подготовленные многомесячными прениями в рамках крестьянских общественных организаций и съездов, а также чтением народнической пропагандистской литературы, привыкли к тезисам о принудительном отчуждении всех видов поземельной собственности и образовании народного земельного фонда для предоставления земли в пользование лично обрабатывающих ее. Однако крестьяне западных губерний (украинцы, латыши, эстонцы, поляки и пр.), не жившие общинным бытом, смущались такими соображениями: разумно ли ликвидировать частную собственность? рационально ли общинное пользование землей с практикой внутренних переделов? можно ли отдавать в государственное распоряжение, то есть в руки правительства, землю — их национальное достояние, залог этнической автономии и т.п.? Кто-то, одобряя реформу, напротив, боялся ее продолжительности: пока мужику-де ничего не достанется, а земля тем временем будет дорожать. Много дебатов вызвали пункты о выкупе и оценке земли, и их было решено пока оставить для передачи впоследствии для разрешения в ведение будущим местным земельным комитетам.
Не менее дискуссионным оказался и национальный вопрос. Пожалуй, впервые в российской истории его предстояло обсуждать в многонациональном составе, и полное отсутствие опыта компромиссов сразу обнаружило себя. Предложенная формулировка: «отмена сословий и всех ограничительных законов и правил, существующих для отдельных народностей, вероисповеданий и языков» вызвала возмущение ряда сторонников М.М. Ерогина, которые заявили о необходимости сделать оговорку относительно евреев, которых якобы нельзя равнять со всеми остальными [3, с. 16]. «Поправка» не была принята, однако тон обсуждения вопроса оставил у присутствовавших тяжелый осадок.
Остальные части программы: отмена смертной казни и исключительных положений, немедленное проведение законов об обеспечении неприкосновенности личности и всех гражданских свобод, формирование ответственного министерства, реформа земских и городских учреждений, рабочий вопрос обсуждались и были приняты, практически без разногласий.
Огромного уважения заслуживала самоотверженная энергия, с которой лидеры фракции старались сплотить разнородный ее состав, заставить дружно голосовать, выдвигать в нужные моменты подходящих ораторов, вести текущую, рутинную работу и откликаться на события, происходящие в стране. В результате оказалось, что в рядах думской оппозиции не кадеты заняли ведущее положение, а трудовики, за деятельностью которых внимательно следили все партии и периодическая печать. Кадеты впоследствии не стыдились признаться, что в своих планируемых политических шагах ориентировались на настроение Трудовой группы и «приноравливали к нему свои решения», вносили поправки в редакцию свои проектов — и все для того, чтобы продемонстрировать единство оппозиции. Тем не менее В. В. Водовозов сетовал, что в процессе составления Выборгского воззвания именно трудовики вместе с социал-демократами «оказались в хвосте у кадетов» [1, с. 105], чья редакция в конечном итоге была принята, а не наоборот.
Сотрудничество кадетов с трудовиками, на которое рассчитывали представители оппозиции, не удалось, по мнению народнических публицистов, зорко следивших за думскими страстями, из-за увлечения кадетов собственными «смелостью» в обличении царизма и красноречием в ущерб главному — выработке единого аграрного законопроекта. Не получилось у кадетов, считал В. Г. Богораз-Тан, и признать первостепенную значимость крестьянского вопроса во всей его ширине – наделении землей, уравнении в правах, преобразовании местного самоуправления, всеобщем образовании [9]. Резюмируя работу парламента первого и второго (самых перспективных для российского демократического элемента) созывов, публицист пришел к выводу, что Дума пока не является органической частью государственной системы как из-за подчиненности властной воле правительства и монарха, так и из-за своей несогласованности в работе, неумения фракций идти на компромиссы [10].
Почему именно народные социалисты воспринимались как основные потенциальные союзники трудовиков, изначально упорно настаивавших на своем внепартийном статусе?
Первый аргумент — тактический. Трудовая группа, образовавшаяся как думская фракция, на всем протяжении своего самостоятельного существования (до объединения в июне 1917 г. с народными социалистами) была ориентирована исключительно на легальную, прежде всего парламентскую работу. Вне стен Думы ее активисты, по мере возможности, вели коммуникационную деятельность со своими избирателями (тогда чаще употреблялось слово «выборщики»). Конспиративную деятельность для себя трудовики не рассматривали. Той же позиции придерживались и народные социалисты, чье окончательное размежевание с эсерами на первом съезде ПСР было обусловлено не в последнюю очередь невозможностью для правых народников переходить на нелегальное положение (эсеры, напротив, считали такой переход закономерным для преследуемой властью революционной партии). Таким образом, в вопросах тактического характера у эволюционных народников и трудовиков наблюдалось большое сходство.
Второй аргумент — коммуникационный. Между правыми народниками и крестьянскими депутатами (а также многими их сторонниками –активистами на местах) сложились прочные связи сотрудничества, товарищества и нередко дружбы по работе в общественных организациях – Вольном экономическом обществе и особенно Всероссийском крестьянском союзе, которые помогали неонародникам пропагандировать свои взгляды в крестьянской среде.
И, наконец, третий аргумент — содержательный, программный. В формировании платформы Трудовой группы (собственной программы, каковую «положено» иметь классической политической партии, трудовики так и не выработали) большую помощь крестьянским депутатам оказали умеренные народники, прежде всего А. В. Пешехонов, который считался главным специалистом по аграрному вопросу. Предложенный им проект национализации земли вызвал больше поддержки, чем эсеровский план социализации земли, и лег в основу знаменитой «записки 104-х» (по числу подписавших этот документ думцев).
Поскольку именно земельный вопрос считался и являлся в действительности ключевым в Первой Думе, можно сказать, что на данном этапе эволюционные народники набрали больше политических очков у крестьянских депутатов, чем эсеры. Следует, конечно, принять во внимание, что в Трудовой группе были представлены не все слои крестьянства, а главным образом крепкие «хозяева»; социальная база эсеров была потенциально шире. И, тем не менее, ведущая роль правого народничества в создании аграрного законопроекта не прошла незамеченной. По итогам перводумского успеха в народническом сообществе и ожидали появления единой организации народных социалистов и трудовиков. Осенью 1906 г. в
Департаменте полиции состоялась официальная регистрация народно-социалистической (трудовой) партии, однако в данном случае слово «трудовая» в названии организации указывало на характер и социальные ориентиры (трудовой народ), а, увы, не на союз с Трудовой группой. Более того, некоторых трудовиков разочаровало возникновение новой партии, интересы которой были во многом схожи с интересами их собственной организации и, следовательно, народные социалисты могли оттянуть у них голоса потенциальных сторонников, прежде всего крестьян. Примерно тогда же трудовики задумались о необходимости придания своей группе партийного статуса: им хотелось «влиться в следующую Думу уже не аморфным собранием беспартийных и не конгломератом разных партий», а организацией с собственными программой и традициями [1, с. 105].
В начале осени 1906 г. трудовики собрались на съезд, где был выбран Центральный Комитет в составе активистов – Л. М. Брамсона, С. В. Аникина, В. В. Водовозова и др. Участники съезда решили оставить в стороне вопрос идеологии и сконцентрировались на практических вопросах, среди первостепенных требований выдвигая свободу слова, всеобщее голосование, безотлагательное решение аграрного вопроса.
Таким образом, основной преградой к единению в период I русской революции оказалось препятствие формально-идеологического свойства. Вероятно, чтобы не лишаться возможности сотрудничества с кадетами и не «привязывать» себя к определенной доктрине, трудовики упорно не желали признать себя социалистами, хотя, по сути, таковыми являлись. Некоторые (как, к примеру, А. Ф. Аладьин) не хотели заявлять себя народниками: они сочувствовали социал-демократам и ждали прихода в думские ряды левых партий. Кто-то (как В.В. Водовозов) не вступил в партию народных социалистов в знак протеста, расценив энесов как конкурентов Трудовой группы в борьбе за крестьянские голоса.
Стремясь использовать возможности политического «потепления», которое могло оказаться (и оказалось) недолгим, левые партии развернули свои предвыборные кампании в Думу второго созыва. В результате партийный состав нового парламента по сравнению с прежней Думой оказался более пестрым. Трудовую крестьянскую фракцию составили 104 депутата, из которых собственно трудовиками (членами Трудовой группы) являлся 71 человек. К ним присоединились 14 членов Всероссийского крестьянского союза и 19 сочувствующих. Народные социалисты получили 16 мест. Трудовик М. Е. Березин вместе с беспартийным левым Н. Н. Познанским был избран товарищем Председателя Думы. В качестве союзников по оппозиции трудовики предпочитали, как и ожидалось, неонародников — эсеров и энесов, при этом по-прежнему оберегая свой внепартийный фракционный статус.
В период т.н. «третьеиюньской монархии» и вплоть до Февральской революции вопрос об объединении трудовиков с энесами был неактуален, поскольку народно-социалистическая партии находилась в состоянии почти полного распада: в 1908-1909 гг. еще были попытки держать связь между ее группами в столицах и крупных городах, однако эти усилия со временем практически сошли на нет. Деятельность народных социалистов сосредоточилась на публицистике. Количество трудовической фракции в III и IV Думах составляло соответственно 14 и 10 человек [11]. Используя очень ограниченные возможности продвижения в межреволюционные годы замыслов оппозиции, Трудовая группа не сдавалась, активно обсуждая в думских заседаниях вопросы аграрного переустройства страны с учетом региональных особенностей разных местностей. Нельзя не отметить и деятельность трудовиков в сфере реформирования правовой системы, в области развития народного образования, выступления по национальному вопросу и т.п.
События весны 1917 г. оживили, привели в движение левые политические силы. Народные социалисты принялись за восстановление своих организационных связей; вскоре вновь поднялся вопрос о возможных и естественных союзниках. Объединенная Трудовая народно-социалистическая партия (ТНСП), выступавшая под девизом «Не народ для государства, а государство для народа» [12, с. 442], появилась на своем I учредительном съезде (Петроград, 22 июня 1917 г.). Правда, объединительный процесс не был гладким. Когда началось обсуждение партийной тактики на время революционных перемен, лидеры народных социалистов были склонны ратовать за сотрудничество с кадетами, однако трудовики категорически отвергли такую возможность: из всех оставшихся на тот момент в России реальных политических сил кадеты оказались самыми правыми. Таким образом, трудовики не просто «открестились» от либерализма, но, по словам С. П. Мельгунова, приблизились «к тактике левых групп революционной демократии» [13]. Камнем преткновения едва не стал и национальный вопрос, позиции по которому у энесов и трудовиков, как выяснилось, существенно разнились. Первые выступали за целостность государства (из всех социалистов энесы были самыми твердыми, убежденными государственниками), вторые отстаивали право наций на самоопределение вплоть до отделения. Оставив на время решение этого спорного вопроса, делегаты сосредоточились на более актуальном: принятии программы ТНСП в целом. Общую поддержку съезда встретила редакция программы, главными пунктами которой значились: введение народовластия в виде однопалатного собрания народных представителей, избираемых всеобщим голосованием; федеративная республика; национализация земли с выплатой за нее вознаграждения. Социалистическая идеология (с нею наконец согласились и трудовики) сочеталась с реформизмом и приверженностью эволюционному развитию, а пока в России не сформировались предпосылки для социалистического строя, партия выдвигала всеобщее трудовое начало как основу свободы и общественного равенства [12].
Объединенная партия, оставив в стороне отдельные внутренние разногласия, летом – осенью 1917 г. развернула активные предвыборные кампании: сначала в реформированные революцией органы местного самоуправления, затем во Всероссийское Учредительное собрание, куда от ТНСП прошли 4 кандидата. К сожалению, возможности участия ТНСП в государственном строительстве были пресечены Октябрьским переворотом 1917 г., после которого она, как и другие оппозиционные большевикам партии, очень скоро оказалась вне закона.
Заключение
Трудовая группа до своего альянса с народными социалистами в 1917 г. фактически уже была настоящей политической организацией, хотя и провозглашала свой внеклассовый и чисто фракционный характер. Постепенно из крестьянской Трудовая группа превратилась в интеллигентскую, и симбиоз с народными социалистами, «узаконенный» в 1917 г., выглядел вполне естественно, хотя абсолютного единения так и не произошло, и члены ТНСП все равно продолжали самоидентифицироваться как «энес» либо «трудовик». К тому же нужно принять во внимание, что не все трудовики решили стать членами ТНСП; некоторые (как, например, вступивший в ПСР А. Ф. Керенский, возглавлявший фракцию трудовиков с 1915 г., или перешедшие к кадетам Е. М. Ворсобин и П. Н. Никитин [2, с. 77]) предпочли другие партии или вовсе воздержались от вхождения в какую бы то ни было из них. За годы самостоятельного существования в российской партийной системе Трудовая группа набрала значительный парламентский опыт, и в то же время утратила нечто, составлявшее ее уникальность и особую привлекательность в глазах народнической демократии – крестьянский характер состава. Пожалуй, случись объединение трудовиков с НСП в 1906 г., оно было бы более органичным и безусловным, поскольку базировалось бы на главной платформе — общем взгляде на крестьянский вопрос, и свой политический путь они прошли бы вместе, поддерживая друг друга и обретая в рисках своей открытой парламентской деятельности либо информационно-публицистической борьбы за социальную справедливость все большее единодушие. Но тогда благоприятный для слияния момент был упущен. В 1917 г. при принятии решения об объединении в ход шли уже самые разные, в основном тактические резоны, и, весьма вероятно, именно трудовики считали свое присоединение благом для возрождающейся партии, а не наоборот: НСП почти десять лет пребывала в организационном анабиозе, а Трудовая группа, как бы ни расценивали критики ее политический вес и возможности, не сходила с думской арены и могла гордиться некоторыми яркими фигурами в своих рядах. И все же близость взглядов, прежде всего — на земельный вопрос, между ними оставалась, как и благодарность умеренным народникам за интеллектуальную поддержку в непростое время становления трудовичества. Программа ТНСП, утвержденная на первом съезде в июне 1917 г., включала аграрный раздел, который почти без изменений повторял законопроект «104-х», правда, теперь вместо формулировок «отчуждение», «обращение земли в общенародную собственность, с передачей ее в пользование трудящихся» более широко использовался термин «национализация», Эта мера была обозначена первым пунктом, чем подчеркивалась ее огромная значимость [14, 15] и для трудящихся, и для государства, развитие которого планировалось направить по социалистическому пути.
Следует отметить, что идейно-творческое «водительство» после объединения партии, как правило, оставалось за энесами, а трудовики в основном соглашались либо не соглашались с предлагаемыми им проектами и формулировками. Зато впоследствии, в эмиграции, куда переместился комитет ТНСП после запрета ее большевиками, эта градация – энес или трудовик – совершенно утратила смысл. Для РКП(б) — ВКП(б) все они были в равной степени противниками. Среди активистов Заграничного комитета были трудовики. Так, Н.В. Чайковский, один из старейших народников, бывший член ЦК Трудовой группы, а затем ТНСП, зимой 1921 г. участвовал в качестве представителя последней в заседаниях членов Учредительного собрания в Париже. Присутствие столь авторитетного политического деятеля в рядах партии помогло наладить организационные основы ее заграничной деятельности, хотя рассредоточенность активистов по странам Европы затрудняло интеграцию общепартийной деятельности. С начала 1920-х гг. ТНСП фактически существовала. в виде трех основных (довольно мало связанных друг с другом) групп — Берлинской, Парижской и Пражской. Л. М. Брамсон до своего переезда в конце 1920-х в Париж возглавлял Берлинскую группу. Были и другие примеры.
Изменение условий общественной деятельности, с одной стороны, сглаживало расхождения по ряду вопросов, с другой — заставляло образовывать новые союзы, коалиции. Главным «маркером» патриотизма и отличия «своих» от «чужих» теперь стало отношение к советской власти, к проводимому большевиками политическому курсу, а былая принадлежность к трудовичеству либо энесам отошла на дальний план. За исключением А. В. Пешехонова, желавшего во что бы то ни стало вернуться в Советскую Россию, члены ТНСП в эмиграции оставались непримиримыми антибольшевиками, и с течением времени не изменили своей позиции.
Список литературы Народные социалисты и трудовики в 1917 году: единство или ассоциация?
- Водовозов В. В. Жажду бури… Воспоминания, дневники. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 608 с.
- Протасова О.Л., Бикбаева Э.В. Трудовая группа и ее место в политико-правовой системе России (1906-1917 гг.) // Право: история и современность. 2021. № 4 (17). С. 75-91.
- Брамсон Л. М. К истории трудовой партии // Трудовая группа первой Государственной Думы. Петроград: Единение. 1917.
- Локоть Т. В. Первая Дума. Статьи, заметки и впечатления бывшего члена Государственной Думы. М. 1906. 380 с.
- Что такое Трудовая группа. Пг., [без указания издательства], 1906. 16 с.
- Верхоломова С. Н. Аграрный законопроект Пешехонова в I и II Государственных Думах: постановка вопроса о характере крестьянского землепользования // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2007. №4. С. 74-77.
- Протасова О. Л. А. В. Пешехонов: Человек и эпоха. М.: РОССПЭН, 2004. 240 с.
- Богораз-Тан В. Г. Мужики в Государственной Думе. М.: Издание В.М. Саблина, 1907. 72 с.
- Тан. О Думе // Наша жизнь. 1906. №441. 10 мая.
- Романов В. В. Государственная Дума 1906-1907 гг. как общественная и государственная система в оценке умеренного народника В. Г. Богораза-Тана // Управление общественными и экономическими системами. 2006. №1. С. 19-19.
- Большая Российская энциклопедия: в 30 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004.
- Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: Энциклопедия. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 555 с.
- Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. Вып. 2 (ч. 3). М.: Индрик, 2003. 528 с.
- Народно-социалистическое обозрение. 1906. Вып. 1. 16 с.
- Трудовая народно-социалистическая партия: Документы и материалы. М.: РОССПЭН, 2003. 622 с.