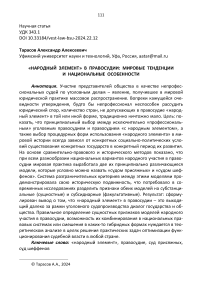«Народный элемент» в правосудии: мировые тенденции и национальные особенности
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (22), 2024 года.
Бесплатный доступ
Участие представителей общества в качестве непрофессиональных судей по уголовным делам - явление, получившее в мировой юридической практике массовое распространение. Вопреки кажущейся очевидности утверждения, будто бы непрофессионал неспособен рассудить юридический спор, количество стран, не допускающих в правосудие «народный элемент» в той или иной форме, традиционно ничтожно мало.
«народный элемент», правосудие, суд присяжных, суд шеффенов
Короткий адрес: https://sciup.org/142241941
IDR: 142241941 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2024.22.12
Текст научной статьи «Народный элемент» в правосудии: мировые тенденции и национальные особенности
Введение. Участие представителей общества в качестве непрофессиональных судей по уголовным делам – явление, получившее в мировой юридической практике массовое распространение. Даже поверхностный анализ специальной литературы по проблемам народного участия в правосудии позволяет выявить примечательную закономерность: обсуждение любого вопроса, связанного с привлечением непрофессиональных участников в составы судов по уголовным делам, практически в каждой стране делит примерно пополам и профессиональное сообщество, и общество в целом. Касается это в равной мере и тех судейских коллегий, в которых представители общества заседают совместно с профессиональными судьями (условно их принято называть «судом шеффенов») и совместно решают все вопросы уголовного дела, и тех самостоятельных коллегий народных представителей, которые изолированно от профессиональных судей решают вопрос о доказанности факта совершения преступления конкретным подсудимым и о его виновности либо невиновности (суд присяжных). Два названных типа «народного элемента» разграничены в мире относительно стабильно1, хотя о значимости конкретных типологических признаков, лежащих в основе такого деления, можно спорить. Однако здесь важно подчеркнуть, что используемые в законодательстве разных государств термины без анализа сущности самой процессуальной формы народного участия в суде способны ввести неискушенного исследователя в заблуждение [1, с. 139].
Вечные дискуссии о «народном элементе» в правосудии. Тезисы и аргументы, звучащие с обеих сторон в этих не прекращающихся веками дискуссиях, нередко снабжались и снабжаются такими эпитетами, как «бесспорно» и «очевидно» или, напротив, «нонсенс» и даже «бред». Большинство и тезисов, и аргументов повторялись в истории многократно, столь же многократно опровергались, повторялись вновь и вновь опровергались. Никакой объем научного труда не позволил бы даже просто перечислить используемые в таких спорах суждения и аргументы. Обозначим лишь крайние из них, а потому грешащие, на наш взгляд, приблизительно равной степенью субъективизма и одной из самых распространенных логических ошибок, именуемых в формальной логике «доводом к публике», то есть подменой содержательных аргументов прямым обращением к эмоциям адресатов. Для горячих сторонников суда присяжных аргумент подобного рода в предельно упрощенном варианте выглядит так: простым среднестатистическим людям, не являющимся профессиональными юристами, настолько важны проблемы правосудия и судьбы подсудимых, решающиеся в судах, что если дать этим людям возможность, они охотно пойдут в судебный процесс с решающим голосом и поступят по совести: осудят виновного или оправдают невиновного. Практика многих стран показала избыточный романтизм таких представлений о народном участии в правосудии – и в суды идут люди в ущерб своим повседневным занятиям неохотно, и судят далеко не всегда по совести, а лишь бы побыстрее освободиться.
Однако и крайняя негативная оценка «народного элемента» в правосудии как основанного на безответственном популизме какой-то части правящей политической элиты, дорогостоящего и организационно обременительного препятствия для самого профессионального правосудия выглядит не более привлекательно при внимательном ее анализе. При всей очевидности сáмого распространенного в профессиональной юридической среде мнения о недоступности для понимания непрофессионалом юридической материи, являющейся предметом судебного разбирательства, количество стран, не допускающих в правосудие «народный элемент» в той или иной форме, традиционно ничтожно мало. К их числу относятся, например, Королевство Нидерланды, Доминиканская Республика и Аргентина. В причинах пополнения этой группы стран, равно как и выхода из нее на определенных этапах истории трудно уловить какие-то устойчивые закономерности. Это не удается сделать даже на ограниченном в общемировых масштабах постсоветском пространстве. Республика Молдова вовсе отказалась от «народного элемента», тогда как Прибалтийские республики восприняли «шеффенское» правосудие, близкое не только к современной германской модели народного участия, но и к идее советских народных заседателей – выборных представителей больших социальных групп, участвующих в работе суда в единой коллегии с профессиональным судьей. Россия возродила классическую модель суда присяжных, Казахстан – особый гибрид между судом присяжных и судом шеффенов.
В средневековой монархической Англии институт непрофессиональных присяжных заседателей возник и развивался на почве непрекращаю-щихся протестов сильной местной аристократии против «коронных судей», представлявших интересы короля в графствах. В таком же режиме, как известно, в XII в. английские бароны вынудили очевидно слабого иноземного монарха Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей, во многих положениях касавшуюся организации правосудия. Впоследствии более сильные английские монархи предпочитали договариваться с баронами, в том числе и по вопросам правосудия, что обусловило первоначальное привлечение в коллегии присяжных наиболее уважаемых граждан данного территориального образования и использование их вердиктов в качестве консолидированных свидетельских показаний. С этими же дого- воренностями, как полагаем, связана и возможность подвергнуть недобросовестных присяжных взысканиям, причем не только ощутимым денежным штрафам, но и телесным наказаниям. «Народный элемент» в правосудии, прежде всего в уголовном, возникал и укреплялся, таким образом, как способ упорядочивания и умиротворения взаимоотношений между государством как официальной формой организации жизни общества и самим этим обществом, в реальной действительности не совпадающим полностью ни с одной из форм организации публичной власти, а потому объективно требующим такого «упорядочивания» и «умиротворения». Профессиональные юридические знания королевских и иных государственных чиновников в этой схеме оказывались не только не единственным, но даже и не главным системообразующим фактором. Главным было стремление государства расширить социальную базу собственного существования за счет обращения непосредственно к населению страны или к какой-то его влиятельной части с предложением участвовать в одной из наиболее заметных для большинства этого населения форм реализации публичной власти – в отправлении правосудия по уголовным делам. Одним лишь аппаратом государственных чиновников эту проблему решить было нельзя – любой чиновник, в том числе и судья, объективными условиями осуществления своей деятельности всегда был отгорожен от населения и поставлен как бы «над ним», что непременно рано или поздно становится причиной недоверия к нему со стороны населения.
Принципиальный выбор между исключительно «профессиональным» уголовным правосудием и правосудием с «народным элементом», а также выбор процедурных форм использования «народного элемента» в мировой истории всегда зависел от конкретных социально-политических условий существования конкретных государств в конкретный период, а потому всегда был и остается достаточно подвижным. При всем разнообразии национальных вариантов народного участия в правосудии мировая практика выявила две их принципиально различающиеся модели, которые условно можно назвать «судом присяжных» и «судом шеффенов». Революционная Франция в конце XVIII в. заимствует английскую модель суда присяжных – с самостоятельным решением коллегией непрофессиональных случайно отобранных судей вопроса о доказанности обвинения и виновности подсудимого. Именно Франция с военными победами Наполеона в начале XIX в. распространяет эту ставшую классической английскую модель суда присяжных почти по всей Европе. Фактическая ликвидация суда присяжных во Франции приходится на начало гитлеровской оккупации в 1940 г. (ордонанс маршала Петена), юридическая – на конец Второй мировой войны (специальный закон 1945 г.). На смену английскому варианту суда присяжных приходит суд ассизов – пред- ставителей общества, заседающих в единой коллегии с несколькими профессиональными судьями. В российской уголовно-процессуальной литературе встречаются суждения о необходимости использования положительного опыта суда присяжных в современной Франции в части процессуального паритета прав профессиональных и непрофессиональных судей в исследовании доказательств [2, с. 18].
Такого рода суждения, довольно распространенные в современной литературе, основаны на принципиальном непонимании того, что в современной Франции нет суда присяжных в той форме, в которой он существует в современной России, и «усовершенствование» российского суда присяжных «по французскому образцу» означало бы его ликвидацию. Так же выглядят и попытки реформировать российский суд присяжных «по примеру Германии», которая в 1920-х годах отказалась от навязанной Францией («на штыках наполеоновских армий», как писал М.А. Чельцов-Бебутов [3, с. 556]) классической английской модели суда присяжных и вернулась к традиционному для самой Германии шеффенскому суду.
Ошибочные суждения, основанные на смешении разных форм участия народных представителей в правосудии, встречаются и в более поздних научных исследованиях, что проанализировано и подвергнуто критической оценке в литературе последних лет [1, с. 139–140].
В числе самых обсуждаемых «недостатков» традиционного англосаксонского суда присяжных, а значит и один из самых «весомых» аргументов его откровенных противников, – это явление так называемой нуллификации, то есть вынесения оправдательного вердикта при несомненной доказанности виновности подсудимого, нередко при его собственном настойчивом признании в совершении именно этого преступления. Ю.В. Стрелкова на основе анализа практики деятельности суда присяжных в разных государствах убедительно доказывает, что это именно социальное явление, достойное изучения и специально изучаемое в профессиональном научном сообществе. Как правило, нуллификация представляет собой форму общественного протеста против несправедливого уголовного закона или несовершенства системы правосудия в конкретной стране в конкретный период ее истории [4, с. 85].
В литературе правильно подчеркивается, что практика вынесения присяжными так называемых нуллифицирующих оправдательных вердиктов вопреки действительно доказанным, с точки зрения профессионала, основаниям виновности подсудимого – это вовсе не сбой в работе суда присяжных, а имманентное его свойство. Л.В. Головко называет нуллификацию уголовного закона институциональным признаком суда присяжных, призывает принять его как данность и солидаризируется с мнением американско- го профессора Ст. Теймана о том, что отрицать нуллификацию означает отрицать сам суд присяжных [5, с. 61–62].
Французские присяжные, когда они еще были таковыми в традиционном английском варианте, в октябре 1927 г. показали миру один из самых ярких образцов нуллификации – оправдательный вердикт по делу Самуила Шварцбурда об убийстве в Париже Симона Петлюры, который в современной Украине считается национальным героем, павшим жертвой спланированного убийства, а убийца к тому же еще и избежал наказания. Тот же, кто убил Петлюру и публично признался в этом, в современном Израиле признан национальным героем, справедливо казнившим главного виновника жесточайших еврейских погромов на Украине в 1919 г., унесших жизни, по разным данным, не одной сотни тысяч человек, в том числе всех родственников подсудимого. Именами и «жертвы», и «преступника» названы, соответственно, украинские и израильские улицы. Их могилы во Франции и в Израиле считаются культовыми символами, привлекающими внимание современников. Оценивать эту ситуацию строго юридически трудно. Однако нетрудно предположить, что нуллификация как социально-правовое явление едва ли смогла бы получить сколько-нибудь значительное распространение в тех формах народного участия в правосудии, которые предполагают совместное решение главных вопросов уголовного дела профессиональными судьями и непрофессиональными судебными заседателями в единой судейской коллегии (германскими шеффенами, французскими ассизами или советскими народными заседателями – неважно). При этом осмелимся утверждать, что стремление к недопущению нуллификации – это вовсе не бесспорный мотив для отказа от суда присяжных в его классической модели. Коллегия присяжных, сформированная методом случайной выборки и отобранная с помощью мотивированных и немотивированных отводов, заявленных носителями противоположных правовых интересов, – это «срединный срез» общества. Негативное отношение такого «срединного среза» к уголовному закону, к системе правосудия в стране, к кадровому корпусу условных юридических чиновников – серьезный повод для ответственной государственной власти попытаться диагностировать истинную причину конкретного случая нуллификации и что-то изменить, не дожидаясь крайних форм проявления массового народного сопротивления. Суд присяжных – это не только и не столько набор юридических процедур разрешения конкретного уголовного дела. Это выходящий далеко за рамки уголовного процесса диалог государственной власти и общества.
Сказанное вовсе не исключает, скорее наоборот, подчеркивает подвижность и национальную индивидуальность процессов выбора как самого принципа привлечения непрофессионалов к отправлению правосудия в кон- кретных государствах на конкретных этапах истории или отказа от него, так и процессуальных форм народного участия.
Швейцария в период с 2007 г., когда был принят первый общий для всей Швейцарской Конфедерации уголовно-процессуальный закон (Schwei-zerische Strafprozessordnung), до 2011 г., когда он был введен в действие, постепенно, по кантонам, отказывается от суда присяжных, созданного в XIX в., и не заменяет его никакими народными представителями в суде1, в отличие от Германии и Франции, сохранивших непрофессиональных судебных заседателей, хотя влияние обеих стран на правовую систему Швейцарии всегда было достаточно ощутимым.
Япония, веками обходившаяся без участия представителей общества в правосудии, в начале текущего столетия, а именно в 2009 г., вводит судебных заседателей по типу германских шеффенов, которые, однако, «отбираются из избирателей каждый раз только для одного дела», по типу традиционных присяжных заседателей [6, с. 186].
Последнее обстоятельство столь же красноречиво дает понять, что и казавшаяся незыблемой система разграничительных критериев между двумя типичными моделями «народного элемента» в правосудии – судом присяжных или судом шеффенов – также продемонстрировала свою историческую подвижность. И.Я. Фойницкий в конце XIX – начале XX столетия такими критериями называет: 1) особенность формирования коллегии непрофессиональных судей (целенаправленные выборы шеффенов и случайный отбор присяжных по жребию); 2) эпизодичность привлечения к правосудию (шеффены – на определенный срок по не определенному заранее кругу дел, присяжные – на конкретное дело); 3) распределение компетенции при исследовании обстоятельств уголовного дела (шеффены – те же обстоятельства, что и профессиональные судьи, одновременно с ними, присяжные – только вопросы доказанности фактических обстоятельств преступления и виновности в нем (либо невиновности) конкретного подсудимого); 4) принятие решения по существу дела либо в единой коллегии с профессиональными судьями (шеффены), либо в автономно совещающейся и принимающей самостоятельное решение по вопросу доказанности факта и виновности подсудимого собственной, изолированной от профессионального судьи коллегией непрофессионалов (присяжные); 5) мотивированность решения единой коллегии профессиональных и непрофессиональных судей (шеффены) и немотивированность вердикта присяжных (vere dictum – в переводе с латинского означает «правдиво сказано», то есть не требует специального обоснования); 6) возможность (шеффе- ны) либо невозможность (присяжные) апелляционного пересмотра приговора, постановленного с участием народных представителей [7, с. 134–135]. Последний признак традиционно связывали с предыдущим: если принятое решение не мотивируется, то невозможно отменить его по мотиву необоснованности, то есть несоответствия выводов суда установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Практика использования обеих форм «народного элемента» в разных странах показала многочисленные варианты отступления от этих сформулированных когда-то правил, что, однако, не меняет общего деления их форм на два принципиально различающихся типа. Современные испанские присяжные мотивируют свой вердикт и допускают в коллегию судебного секретаря во избежание формальных нарушений процедуры совещания и голосования по вердикту [8]. Приговоры, постановленные на основании вердикта присяжных заседателей, в современной России подлежат пересмотру в апелляционном порядке при сохранении законодательного запрета на отмену такого приговора по мотиву его необоснованности, то есть несоответствия выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела [9].
С.А. Насонов справедливо предложил разделить признаки суда присяжных на субстанциальные (сущностные) и субсидиарные (факультативные). К субстанциальным признакам непременно относится распределение исключительной компетенции между коллегией присяжных и профессиональными судьями: первая обладает автономным от профессионального судьи правом на разрешение вопроса о виновности либо невиновности подсудимого, при этом только профессиональный судья вправе решать вопрос об уголовно-правовой квалификации содеянного, о назначении наказания и разрешать уголовно-процессуальные споры. Субстанциальным признаком суда присяжных при этом является и «правовая консолидация» автономных в своей исключительной компетенции профессиональных и непрофессиональных судей в исследовании доказательств, в устранении разного рода неясностей, в «суммировании результатов судоговорения» [10, с. 13].
На основе анализа законодательной и правоприменительной практики нескольких континентально-европейских государств С.А. Насонов также выделяет особую, комбинированную модель суда присяжных, в которой при сохранении субстанциальных признаков именно этого суда могут варьироваться какие-то субсидиарные признаки. Такая модель существует в современной России, и она остается именно судом присяжных [10, с. 16].
С.А. Насонов справедливо и последовательно доказывает «дисфунк-ционализм» так называемых гибридных моделей народного участия в правосудии, когда даже при сохранении каких-то терминологических совпадений с судом присяжных суд утрачивает сущностные признаки суда присяжных, то есть таковым уже не является. Автор выделяет два варианта таких моделей: 1) те, в которых вопрос о виновности относится к исключительной компетенции профессионального судьи; 2) те, в которых решение вопроса о виновности относится к совместной компетенции профессиональных и непрофессиональных судей.
Какими бы процедурными «довесками» обе эти гибридные модели ни сопровождались, считать их судом присяжных нельзя ввиду отсутствия сущностных его признаков. С.А. Насонов верно подчеркивает, что многие процедурные особенности суда присяжных в гибридных моделях приобретают рудиментарный характер, что делает логичным последующий отказ от них. Так, например, присутствие председательствующего профессионального судьи при совещании коллегии присяжных делает избыточным напутственное слово председательствующего перед удалением присяжных в совещательную комнату. Такое положение в реальной современной практике влечет за собой постепенный отказ законодателей от этих избыточных процедурных элементов, а значит и от остатков субстанциальных признаков суда присяжных и от «присяжного правосудия» как такового [11, с. 111]. Вместе с тем С.А. Насонов отмечает и позитивное значение гибридных моделей, состоящее в формировании потенциальной основы и для обратного движения – постепенного перехода к суду присяжных в его «классическом» варианте [11, с. 112].
Заключение. Сформулируем главный вывод из всего сказанного. «Народный элемент» в уголовном правосудии – это необходимый способ преодоления «пропасти отчуждения» между судебной властью, а заодно и всей правоохранительной системой страны и ее населением. Такое отчуждение рано или поздно возникает в истории любых государств по разным социально-политическим или даже экономическим причинам, и социально ориентированное государство заинтересовано в своевременной диагностике этого явления и как минимум в приспособлении к нему, а как максимум – в его преодолении. Народное участие в разрешении наиболее чувствительных для людей правовых конфликтов – в сфере уголовного права – это придание системе правосудия понятного простым людям человеческого облика, это глобальный, выходящий далеко за рамки собственно уголовного судопроизводства диалог государства (в узком смысле – государственного аппарата) и общества. Постоянно нуждаясь в кредите доверия к системе правосудия со стороны населения, государственная власть сама выбирает форму народного участия в уголовном правосудии, ориентируясь на особенности конкретного исторического момента. Несоответствие избранной процедурной модели «народного элемента» социально-правовым реалиям не только не обеспечивает народного доверия к суду и правосудию, напротив, подрывает доверие к данному государству вообще.
Список литературы «Народный элемент» в правосудии: мировые тенденции и национальные особенности
- Тарасов А.А. Уголовно-процессуальная компаративистика – территория открытий и заблуждений / А.А. Тарасов // Правовое государство: теория и практика. – 2024. – № 1 (75). – С. 133–141.
- Шидловская Ю.В. Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Шидловская. – Томск, 2007. – 26 с.
- Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах / М.А. Чельцов-Бебутов. – Санкт-Петербург, 1995. – 846 с.
- Стрелкова Ю.В. Вердикт присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве: теоретические основы и правоприменительная практика: дис. канд. юрид наук: 12.00.09 / Ю.В. Стрелкова. – Москва, 2018. – 228 с.
- Головко Л.В. Суд присяжных и качество предварительного следствия: есть ли корреляция? / Л.В. Головко // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 1. – С. 58–62.
- Коморида Акио. Глава 26. Суд с участием судебных заседателей: новая форма организации состязательного судопроизводства в Японии / Акио Коморида // Теория уголовного процесса: состязательность: монография / под ред. Н.А. Колоколова. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – Ч. II. – 320 с.
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий. – Санкт-Петербург: Альфа, 1996. – Т. 1. – 552 с.
- Юришина Е.А. Суд присяжных в Испании: историческая ретроспектива, предпосылки возрождения и некоторые отличительные особенности / Е.А. Юришина // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 3А. – С. 87–98.
- Камнев А.С. Пересмотр не вступивших в законную силу приговоров, постановленных судом с участием присяжных заседателей, в России: традиция и международные стандарты уголовного правосудия / А.С. Камнев // Вестник Томского университета. – 2015. – № 391. – С. 160–166.
- Насонов С.А. Концептуальные основы производства в суде с участием присяжных заседателей: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.А. Насонов. – Москва, 2022. – 46 с.
- Насонов С.А. Концептуальные основы производства в суде с участи- ем присяжных заседателей: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.А. Насонов. – Москва, 2021. – 517 с.