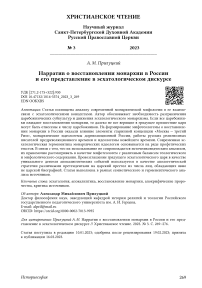Нарратив о восстановлении монархии в России и его представление в эсхатологическом дискурсе
Автор: Прилуцкий А.М.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историософия
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современной монархической мифологии в ее взаимосвязи с эсхатологическими концептами. Автор обосновывает необходимость разграничения царебожнических субкультур и движения эсхатологического монархизма. Eсли все царебожники ожидают восстановления монархии, то далеко не все верящие в грядущее пришествие царя могут быть отнесены к числу царебожников. На формирование мифотеологемы о восстановлении монархии в России оказали влияние элементы старинной концепции «Москва - третий Рим», монархические идеологемы дореволюционной России, работы русских религиозных писателей предреволюционного времени и идеологемы новейшего времени. Современная эсхатологическая герменевтика монархических идеологем основывается на ряде профетических текстов. В связи с тем, что их использование не сопровождается источниковедческим анализом, их правомочно рассматривать в качестве мифотеологем с различным балансом теологического и мифологического содержания. Провозглашение грядущего эсхатологического царя в качестве уникального деятеля апокалиптических событий используется в качестве апологетической стратегии различными претендентами на царский престол из числа лиц, обладающих явно не царской биографией. Статья выполнена в рамках семиотического и герменевтического анализа источников.
Эсхатология, апокалиптика, восстановление монархии, апокрифические пророчества, критика источников
Короткий адрес: https://sciup.org/140300880
IDR: 140300880 | УДК: [271.2-175+322]:930 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_269
Текст научной статьи Нарратив о восстановлении монархии в России и его представление в эсхатологическом дискурсе
16.03.2023.
Популярность нарратива о грядущем восстановлении в России абсолютной монархии во главе с православным царем в настоящее время выходит за пределы религиозных субкультур фундаменталистского паттерна. Ожидают скорейшего пришествия царя монархически настроенные верующие различных конфессий и юрисдикций. Интент-анализ современных эсхатологических текстов позволяет сделать вывод о том, что вера в предстоящее восстановление монархии в России не имеет строгой корреляции с царебожническими мифологемами и мифотеологемами: если все царебожники ожидают восстановления монархии, то далеко не все верящие в грядущее пришествие царя могут быть отнесены к числу царебожников.
В новейшем эсхатологическом дискурсе мифотеологема о грядущем царе обладает выраженным структурным значением: она позволяет актуализировать и герменевтически переосмыслить монархические идеологемы дореволюционной России, включив их в смысловое и семиотическое пространство современной эсхатологии. Несмотря на важную роль в конструировании популярного эсхатологического дискурса, данная мифотеологема остается неизученной и фактически неописанной; настоящее исследование призвано отчасти восполнить данный пробел.
Очевидно, что на формирование мифотеологемы о восстановлении монархии в России оказали влияние монархические идеологемы дореволюционной России, получившие эсхатологическую интерпретацию в свете революционных событий начала ХХ в. Неслучайно в российском публицистическом дискурсе начала ХХ в. предчувствие грядущих социально-политических потрясений часто окрашивалось в эсхатологические и апокалиптические тона: в связи с этим симптоматично название работы В. В. Розанова «Апокалипсис нашего времени». Метафорическая и аллегорическая интерпретация революции как апокалиптической катастрофы приводила к семиоти-зации монархических идеологем, наделению их эсхатологическим символическим значением: символы монархии воспринимались заметной частью православных верующих в качестве символов эсхатологических, своего рода семиотических эсхатологем: «Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия™ Не будет Царя — не будет и России™ Как человек с отрезанной головой уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом смердящим» [Воспоминания Жевахова, 2014, 816]. Можно предположить, что в данном случае происходила актуализация и переосмысление в новом контексте концепции «Москва — третий Рим», которая изначально воспринималась именно как эсхатологема.
На развитие у монархических концептов эсхатологических значений и коннотаций, безусловно, повлияли и работы русских религиозных писателей дореволюционного времени, доказывавших, что именно русский православный царь является «удерживающим» приход антихриста (ср. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»; 2 Фес 2:7). По данным, приводимым проф. А. Д. Беляевым, подобная герменема была представлена в работах Н. Виноградова и Д. Глаголева, опубликованных в конце XIX в.: «оба они… находят указание на высшего носителя законного порядка, т. е. царя, причем царя российского» [Беляев, 1898, 522]. Относительно мало популярная в предреволюционной России, эта герменема оказалась востребованной современной эсхатологией: она получила развитие и фиксацию как в новейших текстах ритуало-сферы [Исповедательная молитва], так и в апокрифических и псевдографических эсхатологических пророчествах (см.: [Прилуцкий, 2017]).
Однако если наделение российского монарха глобальным эсхатологическим значением не получило в российском дореволюционном религиозном идеодискурсе особого распространения, представления об особой сакральности царской власти целенаправленно и успешно насаждались монархически настроенными авторами: товарищ обер-прокурора св. Синода князь Н. Д. Жевахов писал по этому поводу: «Христианский Монарх — это не только самая совершенная, но и единственная форма Божеской власти на земле. Это — Боговластие, не имеющее никаких точек соприкосновения ни с народовластием, ни с иными формами и видами многоразличной земной власти и существовавшее до революции только в России» [Воспоминания Жевахова, 2014, 816]. В результате активного репринтного переиздания дореволюционной религиозной литературы и работ монархически настроенной эмиграции монархические идеологемы и эсхатологемы стали широко известны среди лиц, интересующихся религиозной проблематикой.
Своеобразным герменевтическим базисом формирования мифотеооогемы о восстановлении российской монархии стали апокрифические эсхатологические пророчества, приписываемые монаху Авелю (фактически речь идет о художественном тексте, написанном в эмиграции в послереволюционные годы), именно они привносят в эсхатологический дискурс своеобразную «фольклорно-эпическую составляющую» (см.: [Чуркин, 2018]). Прочие профетические и псевдопрофетические тексты в дискурсе играют подчиненную роль.
Приведем выдержку из данного «пророчества», якобы произнесенного монахом Авелем во время разговора с императором Павлом Петровичем: «„Ужели сие есть кончина державы Российской и несть и не будет спасения?'1 — вопросил (Император) Павел Петрович. „Невозможное человеком, возможно Богу, — ответствовал Авель, — Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения русского. — И восстанет в изгнании дома твоего князь великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто же речет: «Царь здесь или там», но «это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое признание… Имя его трикратно суждено в истории Российской“» [Пророчества о восстановлении]. Достоверность данного текста вызывает серьезные сомнения, так как корпус пророчеств, приписываемых Авелю (откуда был позаимствован данный текст), создается в 20–30 гг. ХХ в. в среде русской эмиграции и без какой-либо опоры на аутентичные источники, в качестве художественного текста — «историософской притчи» (см. подр.: [Ахметова, 2009]). Многие элементы «легенды об Авеле» опровергаются установленными фактами — так, например, известное утверждение о том, что запись его пророчеств хранилась в опечатанной императором Павлом шкатулке в Гатчинском дворце, документально опровергнуто (см.: [Семенов]), — но это не препятствует их популярности.
Несмотря на то, что предсказания о восстановлении в предапокалиптическое время монархии в России, облеченные в профетическую и псевдопрофетическую форму религиозного текста, фиксируются уже в пореволюционный период, формирование соответствующей мифотеологемы, отвечающей критериям устойчивости и регулярной воспроизводимости в дискурсе, происходит уже в перестроечное и послеперестроечное время. Очевидно влияние и эмигрантского дискурса, в котором последовательный антисоветизм порождал референции к дореволюционным идеологемам, в новом социальном контексте воспринимавшиеся едва ли не как сакральные истины. Определенную устойчивость данному комплексу идей придает структурирующий его пафос отрицания «морального и содержательного опыта, накопленного страной и обществом на прежних исторических этапах» [Скачкова, 2008, 32] — советском и постсоветском, кристаллизирующийся в социальных институтах современности. Монархический эсхатологический дискурс прагматически направлен на делегитимацию современной институционализированной власти. Поскольку чаемое воцарение эсхатологического царя последних времен ожидается не столько как восстановление традиционных институтов монархии, сколько как парадигматический слом и существующих сейчас, и ранее существовавших институтов власти, эсхатологический монархизм обладает чертами как фундаментализма, так и модернизма, что подтверждает тезис об их амбивалентном характере (см. подр.: [Головушкин, 2015]). Позволим сделать предположение, продолжающее тезис проф. Д. А. Головушкина. Если исходить из принципа разграничения традиции и архаики, предложенного К. Н. Костюком (традиции, как правило, хорошо структурированы, тогда как архаика не обладает рациональной структурой, не может выполнять функцию регулирования человеческого поведения; традиция устойчива, тогда как архаика не характеризуется определенностью и устойчивостью; наконец, «архаика не кристаллизуется в социальных формах — это свойство традиции, но оседает на психологическом уровне, прежде всего — на уровне подсознания» [Костюк, 1999, 11]), можно полагать, что архаическое мировосприятие часто оказывается совместимым с модернистскими тенденциями.
На основании популярных профетических и псевдопрофетических источников формируется инвариантное семантическое ядро мифотеологемы, которое включает в себя следующие смысловые компоненты:
-
— После падения монархии в России произойдет кровавая смута, как наказание за измену народа Царю;
-
— Восстановлению монархии будет предшествовать народное покаяние, которое является обязательным условием восстановления монархии;
-
— Восстановление монархии произойдет на короткий срок и будет иметь эсхатологическое значение.
Однако, в отличие от базовых «исторических» текстов, в семантике анализируемой мифотеологемы наличествуют серьезные смысловые и семиотические трансформации, обусловленные как влиянием контекста, так и прагматической заданностью современного эсхатологического дискурса.
Во-первых, указанные трансформации связаны с развитием новозаветных апокалипсических значений, которые в «исторических текстах» формально или отсутствуют, или же представлены на уровне коннотаций. Полагаем, это связано с тем, что православному мировосприятию предреволюционного времени была свойственна своего рода «эсхатологическая аберрация» настоящего и того временного модуса, который мы ранее определили как «будущее эсхатологическое» (см.: [Лебедев, 2018]). В результате этого эсхатологическая перспектива более соотносилась с современными событиями и переживаниями, нежели с символической перспективой, изображенной в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Так, например, указание на то, что «русского православного царя будет бояться даже сам антихрист» [Лаврентий Черниговский], встречается исключительно в современных эсхатологических нарративах, в предреволюционную эпоху подобные эсхатологические предсказания не делались.
Актуализация эсхатологических смыслов обеспечивается и благодаря установлению семиотических параллелей между пророчествами о восстановлении монархии и эсхатологическим описанием Второго Пришествия Спасителя. Например, приписываемое монаху Авелю предсказание «Его явление не вызовет никаких сомнений и разногласий у людей, так что не будут спорить: „Здесь Царь, или там“, но все скажут: „Вот он!“» имеет очевидное соответствие в Новом Завете: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте™ если скажут вам: „вот, Он в пустыне“, — не выходите; „вот, Он в потаенных комнатах“, — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф 24:23, 26-27). В результате выстраивания семиотической параллели «пришествие царя» становится символической проекцией Второго Пришествия Спасителя.
Во-вторых, в современных эсхатологических нарративах предпринята попытка соотнести будущие события российской истории с последовательностью событий, представленной в книге Апокалипсиса: иными словами, российский хронотоп будущего включается в глобальную эсхатологическую перспективу. Отсутствие единообразия при этом нас не должно удивлять: мифотеологема, подобно мифу, не способна создавать единую временную шкалу. Поэтому в современном дискурсе сосуществуют представления о том, что восстановление монархии произойдет:
— незадолго до прихода антихриста,
— одновременно с ним,
— вскоре после поражения антихриста.
Очевидные логико-сюжетные противоречия при этом не порождают когнитивного диссонанса во многом потому, что в сознании реципиентов эсхатологических текстов в большинстве случаев отсутствуют представления о последовательности событий, описанных в Откровении Иоанна Богослова.
Кроме того, к контекстно-вариативным компонентам значения мифотеологемы относятся весьма любопытные детали сюжета. Так, существуют различные версии прихода царя к власти: согласно одним, царь будет избран народом во время экспансии Китая: «Архангел Михаил китайцев устрашит, и они примут Православие, а нам дадут избрать царя»; по другим — царь будет исключительно избранником Божьим: «О народе только Царь заботится. Бог его изберет! А народ почти весь, порченый щас (так в оригинале. — А.П .) народ-то, выберет себе антихриста!..» [Предсказания православных стариц]; существует популярный профетический нарратив, что на царя укажет воскресший прп. Серафим Саровский. Именно последний нарратив побуждает современных претендентов к поиску различных герменевтических уловок, позволяющих утверждать, что данное пророчество исполнилось «духовно», то есть метафорически.
Вариативной оказывается и эпистемическая модальность дискурса, в котором восстановление монархии может быть представлено как событие, не зависящее от людей (как то, что предопределено Богом и свершится обязательно): «В России в это время будет Православный Царь, которого Господь явит русскому народу» [Последний царь], и как то, что может произойти, а может и не произойти (проблематичные суждения): «Еще один вопрос задали — о возможности восстановления монархии в России. Старец ответил, что это восстановление надобно заслужить. Оно существует как возможность, а не как предопределенность» [Пророчества о Китае].
К функциональным целям восстановления монархии относится достаточно стандартный и устойчивый набор ожиданий, в совокупности выражающих социополитический и религиозный идеал религиозного фундаментализма. От царя ожидается:
-
— очищение Церкви от «ереси экуменизма» и «сергианства», смещение и наказание нечестивых иерархов;
-
— наказание вообще всех изменников;
-
— упразднение биометрии, новых информационных технологий, продукции ГМО,
-
— ведение победоносных войн с внешними врагами, прежде всего — с Китаем,
-
— установление справедливого и благополучного общества (вариант: Россия будет под властью царя страной, бедной экономически, но богатой духовно);
-
— устрашение антихриста.
Следует отметить, что в дискурсе присутствуют и представления о том, что правление чаемого царя будет носить сугубо тоталитарный и запретительный характер. Так, царский запрет будет наложен на табачную и алкогольную продукцию, модную одежду, пластическую хирургию, маникюр, компьютерные игры, бытовую технику, покупки в иностранных интернет-магазинах, футбольные матчи и т. д.» [Царь не придет]. Однако абсурдность данного перечня позволяет сделать предположение, что мы имеем дело с пародийным травестированием темы, тем более что на этом же канале размещены ролики, доказывающие правоту «теории плоской земли».
Во многих нарративах, содержащих анализируемую мифотеологему, содержится явная идеализация царствования последнего императора как «золотого века российского государства», причем последнее интерпретируется в качестве не только общества недостижимого духовного и материального благополучия, но и неизменного образца для подражания. Идеализированный образ последнего царствования формируется во многом благодаря взаимодействию ностальгических мифологем золотого века (часто фундируемых статистическими данными о тогдашнем уровне зарплат и цен, индустриальном строительстве, курсе рубля к другим валютам и т. д.) и героического мифа, отчетливо фиксируемых в текстах неканонических акафистов, посвященных «Царю-Искупителю». В последних царь прославляется в качестве победоносного военачальника — защитника Святой Руси от могущественного и коварного внешнего врага, инспирируемого тайными силами.
Однако наряду с этим в настоящее время активно формируется и другая герменевтическая линия, которую условно можно обозначить как «эсхатологический царь-простолюдин». Для нее характерно, что «грядущий царь» представляется как выходец из простого народа, из низовых социальных страт, причем подчеркивается, что до того как стать царем, он испытывал лишения, вел нищенскую жизнь. Его образ полностью лишен царской изысканности и аристократизма, а предстоящее правление изображается в духе постмодернистского микса «военного коммунизма» и опричнины Ивана Грозного. В этом случае происходит разрыв шаблона: «идеальный император — Николай Второй», реализуемые им управленческие стратегии и вся стилистика царствования, вопреки ожиданиям, не являются образцом для подражания. Согласно популярным в некоторых, наиболее маргинальных царебожнических субкультурах, теориям образ грядущего царя наделяется промыслительными и эсхатологическими значениями. Соответственно, его правление текстуализируется как особая пророческая эсхатологическая нар-рация в общем эсхатологическом дискурсе. Поэтому грядущий царь понимается амбивалентно — отчасти как продолжающий историческую линию российских монархов, но при этом занимающий совершенно особое положение. Как царь эсхатологический он оказывается первым и единственным в своем роде, поэтому традиции монархии оказываются к нему неприложимы или же применимы только выборочно. Разумеется, критерии этой выборочности определяют сами претенденты на престол или их апологеты. Поэтому они подбираются под влиянием субъективно-контекстуальных факторов и зависят полностью от конъюнктуры, в том числе биографической. Это делает возможным заявлять «царские претензии» маргинальным личностям типа Леонида Власова («схимитрополита-царя Зосимы») (см.: [Лебедев, 2022]). Криминально-тюремное прошлое, банальная безграмотность, образ «разбойника с большой дороги» — все это не препятствует его «царским претензиям», поскольку соответствует формируемому образу эсхатологического царя-простолюдина. Криминальное прошлое кандидата, несовместимое с традиционным пониманием императора как первого дворянина империи, обладающего безупречной репутацией, вполне укладывается в образ эсхатологического царя, фигуры беспрецедентной, поэтому традициями не связанной. В присяге, принесения которой «схимитрополит-царь Зосима» требует от своих адептов, последние обещают «Его Императорского Величества государства и земель его врагов, жидов, колдунов, магов, чародеев, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление» [Лебедев, 2022]. Характерно, что в качестве основы текста присяги использован реальный дореволюционный текст присяги, подвергнутый безграмотной редактуре: в него внесена вышеприведенная вставка про «жидов, колдунов и магов», упоминания которых в историческом тексте, разумеется, не могло быть, но борьба с которыми в современном фундаменталистском дискурсе семиотизируется как индикатор истинности. При этом слово «чародеев», вопреки грамматике, написано через «есть», а не «ять», кроме того, использована неверная словоформа — «Зосимы» вместо «Зосиме» [Присяга Зосиме]. В этой же присяге Зосима провозглашает себя одновременно в качестве «самостоятельного царя» и в качестве «царя», действующего «в лице» императора Николая Александровича. Это указывает на амбивалентный характер правления эсхатологического царя-простолюдина, а также является результатом реализации апологетической стратегии: референция к образу святого императора используется для легитимации претензий авантюриста Л. Власова.
Список литературы Нарратив о восстановлении монархии в России и его представление в эсхатологическом дискурсе
- Ахметова (2009) — Ахметова М. Пророчество монаха Авеля и концепт «жидовского ига» // История — миф — фольклор в еврейской и славянской культурной традиции: Сб. ст. М.: Пробел‑2000, 2009. С. 122–141.
- Беляев (1898) — Беляев А. Д. О безбожии и антихристе. Сергиев Посад: 2‑я тип. А. И. Снегиревой. Т. 2. 1019 с.
- Воспоминания Жевахова (2014) — Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н. Д. Жевахова. СПб.: Царское дело, 2014. 936 с.
- Головушкин (2015) — Головушкин Д. А. Религиозный фундаментализм / религиозный модернизм: концептуальные противники или амбивалентные феномены? // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия. 2015. № 1. С. 87–97.
- Исповедательная молитва — Исповедательная молитва Святому Царю-искупитѣлю Нiколаю Александровичу и Краткий перечень грехов, в которых необходимо покаяться на Исповеди в грехах против Царской Власти. URL: https://iskupitel.info/node/1483 (дата обращения: 15.06.2023).
- Костюк (1999) — Костюк К. Н. Архаика и модернизм в российской культуре // Социологический журнал. 1999. № 3–4. С. 5–19.
- Лебедев (2018) — Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Семиотическая специфика категории времени в маргинальных радикально-монархических православных дискурсах // Вестник ТверГУ. Сер.: Философия. 2018. № 4. С. 109–115.
- Лебедев (2022) — Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Мифологема о грядущем православном царе: значение и прагматика // Вестник ТверГУ. Сер.: Философия. 2022. № 3 (61). С. 81–91.
- Последний Царь — Последний Царь и пришествие Антихриста. Предсказания старцев. URL: https://www.ruskmir.ru/2013/12/poslednij-car-i-prishestvie-antixrista-predskazaniya-svyatyx-otcov/ (дата обращения: 15.06.2023).
- Предсказания православных стариц — Предсказания православных стариц. URL: http://michelnпostradamus.narod.ru/PP/PS.htm (дата обращения: 15.06.2023).
- Лаврентий Черниговский — Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950) о нашем времени и грядущем антихристе. URL: https://azbyka.ru/apokalipsis/prepodobnyj-lavrentij-chernigovskij‑1868–1950‑o-nashem-vremeni-i-gryadushchem-antikhriste/ (дата обращения: 15.06.2023).
- Прилуцкий (2017) — Прилуцкий А. М. Семиотика ритуалосферы современных «царебожников» // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2017. № 3. С. 210–220.
- Присяга Зосиме — Присягнутые. URL: https://likorg.ru/post/slug‑0ybsh3 (дата обращения: 15.06.2023).
- Пророчества о восстановлении — Пророчества о восстановлении русской монархии. URL: https://www.ruskmir.ru/2015/07/prorochestva-o-vosstanovlenii-russkoj-monarxii/ (дата обращения: 15.06.2023).
- Пророчества о Китае — Пророчества о Третьей мировой войне и России в 21 веке. Предсказания знаменитых пророков и ясновидящих. URL: https://coollib.net/b/611544‑avtor-neizvesten-prorochestva-o-tretey-mirovoy-voyne-i-rossii-v‑21‑veke/read (дата обращения: 15.06.2023).
- Семенов — Семенов В. А. 11 марта 1901 года: миф или реальность (пророчества Авеля и Гатчинский дворец). URL: https://gatchinapalace.ru/special/publications/mif%20or%20not.php (дата обращения: 15.06.2023).
- Скачкова (2008) — Скачкова Т. А. Миф как фактор массового сознания и его трансформация в инструмент пропаганды // Вестник Екатерининского института. 2008. № 4 (4). С. 31–32.
- Царь не придет — Царь не придет… Ч. 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=i14iRb1sX3g (дата обращения: 15.06.2023).
- Чуркин (2018) — Чуркин А. А. «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» митрополита Серафима Чичагова: особенности эпической формы // Русская речь. 2018. № 1. С. 81–91.