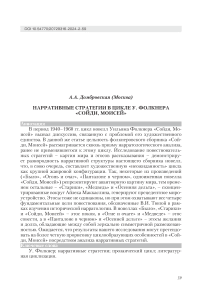Нарративные стратегии в цикле У. Фолкнера "Сойди, Моисей"
Автор: Домбровская А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В период 1940-1960 гг. цикл новелл Уильяма Фолкнера «Сойди, Моисей» вызвал дискуссию, связанную с проблемой его художественного единства. В данной же статье цельность фолкнеровского сборника «Сойди, Моисей» рассматривается сквозь призму нарратологического анализа, ранее не применявшегося к этому циклу. Исследование повествовательных стратегий - картин мира и этосов рассказывания - демонстрирует разнородность нарративной структуры настоящего сборника новелл, что, в свою очередь, составляет художественную «неожиданность» цикла как крупной жанровой конфигурации. Так, некоторые из произведений («Было», «Огонь и очаг», «Панталоне в черном», одноименная новелла «Сойди, Моисей») репрезентируют авантюрную картину мира, тем временем остальные - «Старики», «Медведь» и «Осенняя дельта», - сконцентрированные вокруг Айзека Маккаслина, генерируют прецедентное мироустройство. Этосы тоже не одинаковы, но при этом охватывают все четыре фундаментальные цели повествования, обозначенные В.И. Тюпой в рамках изучения исторической нарратологии. В новеллах «Было», «Старики» и «Сойди, Моисей» - этос покоя, в «Огне и очаге» и «Медведе» - этос совести, а в «Панталоне в черном» и «Осенней дельте» - этосы желания и долга, обладающие между собой зеркально симметричной размежеванностью. Ожидается, что результаты нашего исследования могут претендовать на более четкую прорисовку циклообразующих особенностей в «Сойди, Моисей» посредством анализа нарративных стратегий.
У. фолкнер, нарративные стратегии, прозаический цикл, литературная циклизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149145989
IDR: 149145989 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-59
Текст научной статьи Нарративные стратегии в цикле У. Фолкнера "Сойди, Моисей"
W. Faulkner; narrative strategies; prosaic cycle; literary cycle.
Цикл новелл Уильяма Фолкнера «Сойди, Моисей» по сей день остается противоречивым и проблематичным для исследователей при попытках объяснить органическое единство семи историй, наименованных самим автором «романом» [Vanderwerken 1999, 149]. Среди англоязычных работ, посвященных соотношению включенных в данную книгу произведений, высказываются представления о цикле «Сойди, Моисей» как о слабо связанном гибриде [Cowley 1942, 900], достаточно взаимосвязанном повествовании (но при исключении новеллы «Панталоне в черном», поскольку это единственное произведение цикла, повествующее не о члене семейства Маккаслинов) [Trilling 1942, 632] или свободно построенном романе, имеющем определенные объединяющие элементы [Vickery 1961, 124]. Таким образом, вопрос о принципе единства в сборнике «Сойди, Моисей» сохраняет статус неразрешенного и открытого. Однако несмотря на то, что данный фолкнеровский цикл является частым материалом исследований в западном литературоведении, он еще ни разу не рассматривался через свою повествовательную структуру.
Поэтому целью нашей статьи выступает выявление художественной специфики цикла «Сойди, Моисей» посредством реализуемых в нем нарративных стратегий – картин мира и этосов наррации, – классифицированных В.И. Тюпой, среди которых исследователь выделяет четыре базовые картины мира и четыре фундаментальные цели рассказывания: 1) прецедентную картину мира , основанную на принципе «сверхсобытия», и связанный с ней этос покоя , устраняющий аффект страха и моделирующий адресата обладающим способностью к «репродукции передачи коллективного знания <…> аналогичному адресату» [Тюпа 2021, 196]; 2) императивную картину мира , репрезентирующую господство определенного закона, и этос долга , предполагающий назидательную интенцию и исключающий самопроизвольную реакцию адресата; 3) авантюрную картину мира , которая выстраивает «жизнь хаотическим потоком казусных случайностей» [Тюпа 2021, 210], и этос желания , побуждающий адресата к самоопределению по отношению к прочитанному.
Четвертая картина мира – вероятностная – отнюдь не связана генетически с четвертым этосом – этосом совести : в то время как вероятностная картина мира берет свое начало от романного типа повествования и подразумевает спектр разных жизненных траекторий, этос совести впервые возникает в евангельском повествовании и формирует солидаризацию субъекта и адресата нарратива. При этом стоит отметить, что вероятностная картина мира, не зависимая от определённого этоса, открывает возможность генерирования разных этических доминант и для предшествующих ей картин мира: то есть манифестируемая в художественном произведении картина мира теперь не обязательно сопряжена с её наследственным этосом.
Обратимся к анализу первой новеллы фолкнеровского цикла «Сойди, Моисей» – новеллы «Было». Заглавие и пролог этого произведения изначально настраивают читателя на ретроспективное восприятие повествуемого. Так, во вступлении нарратор объясняет, что он – ретранслятор истории, некогда рассказанной ему двоюродным братом – Эдмондсом Маккаслином. Возводя освещаемые события до предания, Айзек Маккаслин подчеркивает устную природу излагаемого: обращаясь к устному наследию собственного семейства, нарратор манифестирует не прошлое как таковое, а прошлое в форме настоящего (именно за счет возобновляемости процесса рассказывания). Подобная трансформация «былого» в «нынешнее» мотивирует этос покоя , при котором адресат занимает две позиции: носителя родового предания и субъекта, передающего его сходному адресату.
Вторая и третья главы содержат эпизоды с авантюрно-окказиональными компонентами. Например, поимка лисицы, образующая параллель с погоней Бакка и Бадди Маккаслинов за чернокожим рабом Томейевым Турлом, уподобляется фарсу – посредством неоднократных пространственных перемещений: «Когда он и дядя Бак вернулись в дом, обнаружив, что Томейев Турл снова сбежал, они услышали, как дядя Бадди ругается на кухне, затем лиса и собаки выбежали из кухни в холл и устремились в собачью комнату, и потом было слышно, как они убежали из собачьей комнаты» (здесь и далее перевод наш. – А.А.) [Faulkner 1994, 6]. Подготов- ка к погоне, как и сам побег Томейева Турла, возводится до ритуального действа, сопряженного с подчиненностью персонажей авантюрному течению жизни и десакрализируемого до полюса комического. Засада на раба, укрывающегося в поместье Бошампов, инициируется самим Турлом – по воле случая. Пара персонажей – Бак и Бадди Маккаслины – анекдотично обыгрывается сквозь близнечный миф: развенчивая ритуальность надевания галстука перед «охотой», нарратор сообщает, что иной раз галстук служил «еще одним способом спровоцировать людей» на сравнение персонажей с близнецами.
Пребывание в доме Бошампов знаменует добавление ещё одних моментов, имеющих неожиданный характер: от непонимания происходящего мистером Хубертом (вопреки тому, что побеги Турла имели место прежде) до удивления Эдмондса Маккаслина, вызванного «чалым зубом» сестры Хуберта – мисс Софонсибы.
После неудачных засад на Турла, Бак Маккаслин напоминает Хуберту о заключенном на пятьсот долларов пари, поскольку для него важно получить новый «шанс», чтобы одержать победу. Хуберт, подчиненный окказиональному мироустройству, предлагает Маккаслину сыграть в покер, но со следующим условием: тому, кто выигрывает, достается Софонсиба. Значимость «победы» ставится ниже «проигрыша» под влиянием карнавальной инверсии, и, поскольку оба персонажа не желают выигрывать Софонсибу (чтобы иметь холостяцкую жизнь в отсутствие какой-либо женщины), Бак и Хуберт стремятся проиграть. Наибольшую комбинацию набирает Маккаслин, и «настоящим» победителем становится Бошамп.
Пытаясь спасти судьбу своего брата, Бадди Маккаслин тоже решает испытать себя в покере; исход этой карточной коллизии несколько известен, несмотря на то, что азартная игра обычно подразумевает ожидание любого результата: нарратор упоминает, что Бадди – прославленный игрок в карты, тем самым ослабляя читательскую «тревогу» (что также соответствует этосу покоя ). С помощью Томейева Турла, раздающего колоды, герой дважды одерживает победу, забирая в качестве выигрыша «свободу» Бака и самого Турла с его возлюбленной – Тенни.
Вторая новелла – «Огонь и очаг» – сюжетно поддерживает преобладание авантюрной картины мира : главный герой – Лукас Бошамп – оказывается вовлеченным в ряд странных событий: непредугаданное обнаружение золотой монеты на кургане, где протагонист прячет свой самогонный аппарат, и невозможность реализации продуманного от начала до конца плана Бошампа по устранению конкурента. Авантюрная интрига не чужда и дальнейшему развертыванию «кладоискательной» темы: проводимые Бошампом махинации организуются как кумулятивная цепочка, достигающая коллапса, когда Эдмондс, отчитывая Лукаса, разрывает всякую связь с ним.
Однако в «Огне и очаге» наравне с «анекдотичной» составляющей присутствует и серьёзный смысловой компонент, который требует от читателя основательной сопричастности к излагаемому. Внедряя внутреннюю фокализацию и – как следствие – активно отражая сознание Лукаса
Бошампа «изнутри», нарратор позволяет нам соприкоснуться с воспоминаниями главного героя об его конфликте с Заком Эдмондсом, отцом «Рота» и своим двоюродным братом.
После того, как жена Зака Эдмондса скончалась при родах и тот забрал Молли Бошамп в качестве няни для новорожденного «Рота», Лукас находится в ситуации «утраты» женского начала в собственном доме. Претерпевая личностную трансформацию, отождествимую с пересечением мифогенной реки Леты (ассоциируемой с «мотивом переправы душ мертвых» [Топоров 2014, 249]), Лукас Бошамп обретает самобытное «я». Требуя у Эдмондса вернуть свою супругу, герой использует фразы, с помощью которых стремится установить равноправие между собой и Эдмондсом: «Я ниггер <…> Но я тоже человек / мужчина. То же самое сделало моего отца, что и твою бабушку» [Faulkner 1994, 37]. Данное высказывание амбивалентно ввиду употребления лексемы «man», трактуемой как «мужчина», так и «человек»: эта семантическая двойственность может воплощать гендерный аспект (связанный с противостоянием двух мужских начал) и одновременно этический императив, связующий представителей человеческого рода в общности прав.
Лишь в поединке с Эдмондсом протагонист устраняет неясность вокруг слова «man», заявляя о себе как о Маккаслине по мужской линии. Но даже после неудачной попытки убить Эдмондса Бошамп пребывает во внутреннем разногласии. Мысль о том, что неиспользованный патрон мог «вместить две жизни», прерывается внутренними размышлениями героя: «Я бы заплатил. Поскольку я считаю, что кровь старика Карозерса досталась мне не зря» (курсив приводится в соответствии с оригинальным текстом. – А.А. ) [Faulkner 1994, 45]. Проникая в сознание Бошампа, нарра-тор обличает противоречивость мыслей персонажа относительно исхода своего существования. В то же время двоякая природа Бошампа, не отвергаемая героем, дарует ему способность маневрировать разнополюсными составляющими своего «я», порожденными смешанным происхождением.
В последней главе, свидетельствующей о воплощении полифонического принципа, интерферируется фокализация Рота Эдмондса. Сливаясь с сознанием Эдмондса, а затем прерывая повествование о «настоящем», нарратор снова перебрасывает нас в «прошлое», где герой, пребывая в ситуации нарушения прежних связей (вследствие ссоры с сыном Лукаса – Генри Бошампом) и ощущая ее «дублирование в среде взрослых» [Ана-стасьев 1991, 416], осмысляет присутствие родового проклятия. Пытаясь найти причину конфликта своего отца с Лукасом, Эдмондс приходит к заключению о том, что разлад произошёл из-за женщины. Размышляя с позиции «настоящего», персонаж утверждает самобытность «другого» – Лукаса Бошампа.
Таким образом, Эдмондс сам находится в состоянии диалога со своим внутренним «я» – в попытке осознания истоков потомственного грехопадения и принятия чужой «самости». Читатель, владеющий доступом к разным точкам зрения и вовлеченный в полемику вокруг «тайны» отдельно взятого семейства, должен обладать установкой на аналогичную авторской причастность к излагаемому, что обусловлено этосом совести. Категория совести вдобавок становится той нравственной доминантой, которую избирает Лукас Бошамп в противовес греховным импульсам, связанным с алчностью к золоту: отказ от развода с Молли Бошамп и желание избавиться от металлоискателя главный герой мотивирует христианским императивом.
Третья новелла – «Панталоне в черном» – также выстраивает авантюрную картину мира . Главный герой, Райдер, будучи объектом и субъектом окказиональной процессуальности, помещается в поток сверхъестественных явлений и сам создаёт ситуации, задающие ожидание непредсказуемых для читательской рецепции исходов. В качестве субъекта авантюрного самоопределения Райдер совершает поступки, взывающие к ответной конфронтации со стороны внешнего бытия и представляющие Райдера борющимся за воплощение своего желания умереть.
Подвергая себя заключительному «авантюрному» испытанию, – карточной игре, – Райдер словесно обрекает собственное существование на негативный результат, говоря, что он «должен умереть». Вероятность данного исхода, предначертанного героем, увеличивается с решением сыграть в карты под руководством «белого человека» – Бердсонга, обманывающего чернокожих рабочих, проводя нечестные игры. Происходящее во время игры только обостряет смертельный риск: Райдер хватает за руку Бердсонга, выбивая спрятанную лишнюю пару костей, после чего тот тянется за пистолетом. Но главный герой опережает Бердсонга, доставая бритву и совершая убийство «белого человека», тем самым выражая «агрессивную» самореализацию в кровопролитном акте над тем, кто не способен принять личностную трагедию афроамериканца.
Этос желания , связанный с читательской свободой, уже транслируется через противоречивую соотнесенность заглавия и разворачиваемого повествования (в первой главе). Обозначенный в названии, персонаж венецианской комедии дель арте – Панталоне – предположительно, должен быть реализован в образе Райдера, но данная аллюзия не оправдывается из-за точки зрения главного героя, позволяющей читателю обозревать воспроизведение трагической «самости».
Однако во второй главе эта отсылка может считаться состоявшейся, потому что субъектом речи выступает заместитель шерифа, репрезентатор «белого» общества, и именно через его оценку произошедшего и освещение последующих событий передаются пренебрежительный тон и непонимание чужого поведения, которые дискредитируют содержание первой главы. Констатируя своё презрение к афроамериканцам, персонаж ставит под сомнение их способность испытывать «обычные человеческие чувства»: для него слёзы Райдера – не настоящие, а уподобленные «стеклянным шарикам». Сталкивая друг с другом две противоположные ипостаси носителя речи (одна из которых компрометирует то, что полноценно доступно только имплицитному адресату), автор побуждает читателя к самоопределению своей позиции в отношении рассказанного.
Следующие новеллы – «Старики», «Медведь» и «Осенняя дельта» – посвящены разным периодам жизни Айзека Маккаслина, уже фигурировавшего в качестве нарратора в «Было». Эти произведения перемещают читателя в изолированное природное бытие, которое формирует прецедентную картину мира. Например, начальный пассаж из «Стариков», сходный с архетипическим сюжетом о сотворении «всего сущего из ничего», наделен обширным перечислением естественных субстанций и живых субъектов, заполняющих изображаемый мир: «Сначала ничего не было. Был слабый, холодный, непрекращающийся дождь, серый и постоянный свет поздней ноябрьской зари <…> Затем там был олень» [Faulkner 1994, 121]. В «Медведе» природное начало также является первоосновой для всего существования, хотя и подготовленной к полноценному разрушению после убийства медведя Старого Бена. В «Осенней дельте» Айзек Маккаслин, будучи уже в преклонном возрасте, по-прежнему стремится к воссоединению с природой, вопреки тому, что становится свидетелем пагубного влияния модернизации на естественную среду.
Но в каждом упомянутом произведении представлены разные этосы наррации. Так, в «Стариках» реализуется этос покоя благодаря семейным преданиям, освещаемым наставником протагониста – Сэмом Фазерсом – с целью приобщения Маккаслина к опыту предков и посредством сюжетного развития: сцены, отведенные описанию охоты, вносят в новеллу загадку – как для читателя, так и главного героя – после того, как Айзек Маккаслин встречает крупного оленя, которого Фазерс называет «вождем» и «дедушкой». Субстанциален ли данный олень или он является духом? «Тревога» позже снимается двоюродным братом Маккаслина, утверждающим, что после собственной инициации тоже видел этого оленя, дважды включая в речь слово «steady» («спокойно») и так же дважды указывая на общность полученного опыта: за счёт глагола «know» («знаю») и грамматической конструкции «So did I» («Я тоже»).
Помимо основного повествования об охоте на Старого Бена, «Медведь» дополняется главой, объясняющей тягу Айзека Маккаслина к природному бытию и его отказ от наследства. Она же выстраивает этос совести . Осознавая дикую природу как божье творение и используя императив христианского слова, Маккаслин отвергает право человека обладать землей как своей собственностью, и лесные просторы в его видении – это отдельный живой субъект, не подвластность которого главный герой манифестирует фразой «bought nothing» («ничего не купил») (когда он оспаривает принадлежность земли его семейству в беседе с двоюродным братом). Распространяя категорию совести на этос рассказывания, автор конструирует повествование в совокупности с размышлениями Маккаслина об истории собственного рода и прочитыванием главным героем бухгалтерских отчетов своего дяди и отца, из которых он узнает о внебрачных связях Луция Карозерса Маккаслина с его чернокожими рабынями. Подобно Эдмондсу Маккаслину из «Огня и очага», пытавшемуся осмыслить семейное грехопадение, протагонист из «Медведя» так же соприкасается с историей родового проклятья, которую основательно постигает и сам читатель.
В «Осенней дельте» мы встречаем ряд фрагментов, несущих назидательную интенцию и формирующих этос долга . В речи нарратора прослеживается частое сравнение прошлого состояния природы с её нынешним обликом, приобретенным вследствие разрушительного воздействия человеческой деятельности, и даже замечание о том, что дороги стали намного лучше, иронично на фоне остальных критических размышлений Айзека Маккаслина о «земле, за изменениями которой он наблюдал» [Faulkner 1994, 250]. Дидактичность также задействована в провозглашении Маккаслином существования мира с трансцедентальными правилами и свершениями (как, например, охота), которые непоколебимы социально-историческими катаклизмами.
Седьмая и последняя новелла – «Сойди, Моисей» – снова метаморфизируется в авантюрную картину мира : действие переносится в тюремную камеру, где допрашиваемым оказывается Сэмюэль Бошамп, и резко сменяется диалогом между детективом Гэвином Стивенсоном и Молли Бошамп, предчувствующей надвигающуюся угрозу на ее давно пропавшего внука. Дальнейшая событийная цепь основывается на кумулятивном рядоположении: Стивенс к собственному удивлению обнаруживает, что Бошамп будет линчеван в этот же день, и затем он же организует тайный сбор средств на похороны казненного. Окказиональным коллапсом служит сцена скорби, в которой причиной тревоги Стивенсона становится песня, исполняемая в доме Молли Бошамп: «“Рот Эдмондс продал моего Бенджамина” <…> “Продал его фараону, и теперь он мертв”» [Faulkner 1994, 278]. Неустойчивость эмоционального плана героя сочетается с физическими порывами и желанием покинуть чужеродное для себя пространство. Аномальность происходящего провоцируется временным расслоением (настоящее контекстуально смешивается с прошлым за счет повторяющейся лексемы «старинный») и осознанием своего одиночного присутствия среди многочисленных афроамериканцев на поминках.
«Сойди, Моисей», как завершающая новелла, вторит началу цикла по этосу покоя . Избавление Стивенсона от беспокойства происходит к завершению всей похоронной процессии и реализуется в нескольких речевых конструкциях с семантикой «умиротворения»: «все уже позади» («it’s all over»), «[все] сделано» («done») и «(все) завершилось» («finished»). Таким образом, дублирование общей нарративной стратегии – между начальной и финальной новеллой – знаменует кольцевую структуру всего цикла.
Анализ нарративных стратегий демонстрирует некоторую неравномерность в цельности исследуемого цикла: в то время как первые три («Было», «Огонь и Очаг», «Панталоне в черном») и финальная («Сойди, Моисей») новеллы воплощают авантюрную картину мира , «Старики», «Медведь» и «Осенняя дельта», где действующим лицом является Айзек Маккаслин, воссоздают прецедентную картину мира . Этосы, в свою очередь, распределены более равномерно: этос покоя трижды реализуется с двойным чередованием («Было» – «Старики» – и в закольцовывающей цикл новелле «Сойди, Моисей»); этос совести дважды – в «Огне и очаге» и «Медведе»; при этом «Панталоне в чёрном» и «Осенняя дельта»
вступают в оппозиционное соотношение за счёт диаметрально противоположных этосов желания и долга . Однако, по нашему мнению, подобная гибридность не предстаёт эстетическим «недостатком», а, напротив, являет непредсказуемость цикла как особого сверхжанрового формирования.
Список литературы Нарративные стратегии в цикле У. Фолкнера "Сойди, Моисей"
- Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы (Уильям Фолкнер). М.: Книга, 1991. 416 с.
- Топоров В.Н. Река // Топоров В.Н. Мифология. Статьи для мифологических энциклопедий: в 2 т. Т. 2. П-Я. М.: Языки славянских культур, 2014. С. 242259.
- Тюпа В.И. Горизонты исторической нарратологии. СПб.: Алетейя, 2021. 270 с. EDN: FJYCEO
- Cowley M. Go Down to Faulkner's Land // New Republic. New York, 1942. Vol. 106. P. 900.
- Faulkner W. Novels 1942-1954: Go Down, Moses; Intruder in the Dust; Requiem for a Nun; A Fable. New York: Literary Classics of the United States, cop. 1994. 1115 p.
- Trilling L. The McCaslins of Mississippi // Nation. New York, 1942. Vol. 154. P. 632-633.
- Vanderwerken D.L. Go Down Moses // A William Faulkner Encyclopedia / ed. by R.W. Hamblin, C. Peek. Mississippi: Greenwood, 1999. P 148-152.
- Vickery O. The Novels of William Faulkner: A Critical Interpretation. Louisiana: Louisiana State University Press, 1961. 269 p.