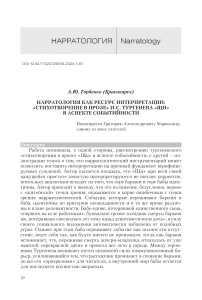Нарратология как ресурс интерпретации: «стихотворение в прозе» И.С. Тургенева «Щи» в аспекте событийности
Автор: Горбенко А.Ю.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена, с одной стороны, рассмотрению тургеневского «стихотворения в прозе» «Щи» в аспекте событийности, с другой - иллюстрации тезиса о том, что нарратологический инструментарий может позволить поставить интерпретацию на прочный фундамент верифицируемых суждений. Автор пытается показать, что «Щи» при всей своей кажущейся простоте зачастую интерпретируются не вполне корректно, поскольку аналитики исходят из того, что горе барыни и горе бабы идентичны. Автор приходит к выводу, что это положение, безусловно, верное с «житейской» точки зрения, оказывается в корне ошибочным с точки зрения нарратологической. События, которые переживают барыня и баба, идентичны по критерию неожиданности и в то же время различны в плане релевантности. Бабе-вдове, потерявшей единственного сына, «первого на селе работника», буквально грозит голодная смерть; барыня же, потерявшая «несколько лет тому назад девятимесячную дочь», в силу своего социального положения автоматически избавлена от подобных угроз. Однако при этом баба переживает событие как полное его отсутствие, ведет себя так, как будто ничего не произошло, тогда как барыня вспоминает, что, переживая смерть дочери-младенца, отказалась от уже нанятой «прекрасной дачи» и провела все лето в городе. Между героинями Тургенева возникает почти чеховской силы коммуникативный барьер, усиливающийся тем, что рассказчик проникает в сознание барыни, делая его «прозрачным» для читателя, а внутренний мир бабы остается для последнего полностью закрытым.
И.с. тургенев, «стихотворения в прозе», «щи», нарратология, интерпретация, событие, событийность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145264
IDR: 149145264 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-61
Текст научной статьи Нарратология как ресурс интерпретации: «стихотворение в прозе» И.С. Тургенева «Щи» в аспекте событийности
Перед читателем тургеневской миниатюры «Щи», написанной в мае 1878 г., встает проблема интерпретации этого внешне очень «простого» и «незамысловатого» произведения. Эта проблематичность понимания смысла «Щей» связана с главной, на наш взгляд, ошибкой, повторяемой почти повсеместно – от работ студентов-филологов до комментария к полному тридцатитомному собранию сочинений и писем Тургенева. В ком- ментариях к десятому тому этого издания читаем: «Одинаковое горе, казалось бы, должно было сблизить двух матерей, но социальное неравенство рождает бездну между женщинами, и одна мать, которая некогда пережила такое же горе, “не понимает и никогда не поймет другую”» [Тургенев 1982, 500] (далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страницы). Идентичные рассуждения автор статьи неоднократно читал в значительном количестве работ, на протяжении 2017–2023 гг. предлагая студентам выпускного пятого курса филологического факультета в рамках «Теории литературы» интерпретировать «Щи».
Все дело, однако, в том, что горе барыни и бабы может быть интерпретировано как «одинаковое» (а тезис об «идентичности» переживаемого персонажами горя фигурирует в цитированном фрагменте комментария к этой миниатюре дважды) только в том случае, если мы воспринимаем тургеневский текст как факт реальности, но не как факт литературы. В такой – «житейской» – перспективе горе любой матери, потерявшей дочь (как тургеневская барыня) или сына (как тургеневская баба), a priori одинаково и не поддается никакому ранжированию.
Фикциональный текст, однако, как хорошо известно, отличается от факта «несделанной» никаким одним автором жизни своей «сделанностью», которая предполагает более внимательный взгляд.
Позволим себе напомнить, что В. Шмид предлагает пять «критериев, определяющих степень событийности»: релевантность, непредсказуемость, консекутивность, необратимость и неповторяемость [Шмид 2008, 24–27]. При этом основными из этих пяти Шмид называет два первых – релевантность и непредсказуемость.
Рассуждая строго нарратологически (с «житейской» точки зрения такое рассуждение с неизбежностью будет выглядеть кощунственно), необходимо заключить, что события, которые переживают барыня и баба, идентичны по критерию неожиданности – из текста «Щей» не следует, что маленькая дочь барыни или взрослый сын бабы страдали от какой-либо тяжелой болезни, которая могла бы привести их к прогнозируемой кончине. Но они вовсе не одинаковы в плане релевантности.
Зададимся вопросом: является ли смерть сына событием для деревенской бабы? Да, является, хотя бы уже потому, что в русской крестьянской культуре «[с]мерть молодого человека (особенно не вступившего в брак) считается неестественной и трагической <…>» [Панченко 2005], как и обратная ситуация, когда представитель крестьянского социального коллектива живет слишком долгую жизнь (ср. негативное отношение и к слишком старым, «зажившимся» людям. А.А. Панченко пишет об этом так: «Судя по всему, в [русской. – А.Г.] крестьянской культуре существовали представления о том, что этот континуум [выше автор определяет его как “ограниченный временной континуум, отпущенный на полноценную социальную жизнь и исчерпывающийся с наступлением старости“. – А.Г.] принадлежит не отдельным людям, а социальным коллективам – семье, деревенской общине либо всему человечеству в целом. Отсюда выражение “чужой век заедать / заживать”, подразумевающее, что “зажившийся на этом свете” старик несправедливо пользуется годами, принадлежащими другим людям» [Панченко 2005]). Этого уже вполне достаточно, чтобы утверждать, что для старухи смерть сына, несомненно, является событием. Однако она ест щи, т.е. ведет себя так, будто ничего не произошло, чем провоцирует неверное истолкование помещицей ее реакции на утрату.
Теперь сравним фигуру бабы-вдовы с барыней, данной Тургеневым для контраста с бабой (своеобразным негативом вдовы). Она тоже пережила формально идентичную потерю – смерть ребенка. Но, при всей внешней схожести утрат, потеря бабы несопоставимо сильнее: она, будучи уже вдовой, остается еще и без сына, т.е. вообще без кормильца, рискуя в обозримом будущем буквально умереть с голоду.
Барыня же, и так избавленная от необходимости физического труда, имеет еще и мужа. Именно поэтому, пережив потенциально одинаково травматическое событие (смерть ребенка) две героини ведут себя принципиально различным образом: баба, для которой смерть сына является гораздо более травматичной, ведет себя так, как будто ничего не случилось, события не было, тогда как барыня, понесшая (хотя бы только в социальном отношении) значительно меньшую утрату, имеет возможность полноценно (квази-аскетически) переживать событие, что выражается прежде всего в отказе «нанять прекрасную дачу под Петербургом», ведущем к необходимости «прожи[ть] целое лето в городе!» (152).
Иными словами, степень релевантности события для героинь тургеневского «стихотворения в прозе» обратно пропорциональна способу реакции на эти события; именно реакции, а не переживания, поскольку доступ к переживаниям крестьянки для читателя закрыт.
И здесь перед нами встает еще один нарратологический вопрос – о способах изображения сознания в «Щах», который должен решаться в контексте тургеневского психологизма и на фоне общей проблемы изображения крестьянского сознания в литературе, остро возникшего в середине XIX столетия. Эта проблема в последние годы поставлена довольно широко (см., например: [Вдовин 2017; Вдовин 2021; Vdovin, Zubkov 2021]).
Очевидно, что сознания барыни и бабы изображены по-разному. В «Щах» есть только одна интроспекция: в тот момент, когда барыня видит бабу, стоящую и глотающую «пустые щи со дна закоптелого горшка <…> ложку за ложкой», она думает: «Господи! <…> Она может есть в такую минуту… Какие, однако, у них у всех грубые чувства!» (152). Здесь нарра-тор с помощью прямого внутреннего монолога делает сознание помещицы максимально «прозрачным» для читателя.
Но уже в следующем абзаце сознание барыни становится менее «прозрачным», а рассказчик прибегает уже к иному способу изображения сознания героини – «нарраторского сообщения о внутренней жизни персонажа» (по классификации, предложенной в [Шмид 2017]): «И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!»
Как уже было сказано, «Щи» стоит рассматривать в контексте поисков Тургенева в области изображения внутреннего мира крестьян, начатых тридцатью годами ранее в «Записках охотника», в которых, как показал А.В. Вдовин, писатель добился прорыва, используя для описания крестьянского сознания язык европейской философии [Вдовин 2017, 303– 308]. В этом смысле «Щи» выглядят как «пессимистический» шаг Тургенева, как уход от стратегии, использованной в «Записках охотника» к той, что реализовалась в «Муму», а именно – крен в сторону изображения внутреннего мира крестьян как «черного ящика» для дворянского наблюдателя, будь то конкретный автор (в нашем случае – И.С. Тургенев), рассказчик (например, нарратор в «Муму», отказывающийся от интроспекций во внутренний мир Герасима) или персонаж. В «Щах» это и автор, и сконструированные им рассказчик и персонаж (барыня).
(Заметим в скобках, что более подробный анализ всего корпуса «стихотворений в прозе» мог бы уточнить картину динамики тургеневского психологизма в целом, однако это с очевидностью выходит за рамки задач настоящей работы.)
Вновь обратившись к цитированному в начале статьи комментарию к «Щам», можно увидеть, что это произведение поставлено там в один ряд с помещенным от него через одно «стихотворением в прозе» «Два богача» по тематическому критерию. «В стихотворении “Щи”, так же как и в стихотворении “Два богача”, мир богачей, бар, противопоставляется миру бедных, нищих крестьян, причем симпатии писателя-гуманиста на стороне последних» (500).
Однако «Два богача» резко отличаются от «Щей» тем, что в последних (пускай и, безусловно, разными средствами) изображаются и ментальный профиль богатой барыни, и сознание нищей крестьянки, которых повествователь «сталкивает» между собой, «заставляя» их вступить в острый социально-психологический конфликт.
В «Двух богачах» же нет структурно-функционального аналога барыни из «Щей», но есть Ротшильд, фигура которого хотя и служит фоном, оттеняющим степень благородства и внутреннего величия бабы и ее мужа, решающими взять в дом осиротевшую племянницу Катьку, но не снабжена никакими негативными коннотациями: «Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь».
Кроме того, рассказчик не предпринимает попыток как-либо изобразить сознание Ротшильда, ограничиваясь имплицитным показом внутреннего мира мужика, отвечающего на сомнения жены по поводу необходимости взять в дом сироту-племянницу скупой репликой:
– Возьмем мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на нее пойдут, – не на что будет соли добыть, похлебку посолить…
– А мы ее… и не соленую, – ответил мужик, ее муж (153).
После этого повествователь делает вывод: «Далеко Ротшильду до этого мужика!» Как мы видели, такой прямолинейной нарраторской оценки не было в «Щах», где Тургенев в целом удерживался в рамках присущего и его прозе, и эксперименту на границе прозы и стиха, которым стали «се- нилии», недосказывающего психологизма [Вдовин], как его определила Л.Я. Гинзбург в книге «О психологической прозе» применительно к прозе Ф.М. Достоевского [Гинзбург 1999] (ср. финальную «строфу» [Орлицкий 2008] «Щей»: «Ей-то соль доставалась дешево», 152).
(Высказанный Гинзбург взгляд на специфику тургеневского психологизма разделяется множеством исследователей Тургенева (вне зависимости от того, ссылаются ли они на книгу «О психологической прозе»). Так, автор одной из сравнительно недавних работ справедливо указывает, что Тургенев стремился к тому, чтобы в его художественном мире «субъективность оставалась в тени, вдали от всепроникающего глаза разума» [Орвин 2022, 81]. Однако есть и другие подходы к концептуализации господствующего в художественном мире автора «Стихотворений в прозе» изображения психологического профиля персонажей. Среди них стоит выделить работу А.П. Чудакова (с той оговоркой, что ее теоретический аппарат далек от присущих лучшим образцам современной нарратологии стандартов строгости), обосновывавшего тезис о «всепроникающей авторской модальности» и «повествовательной авторитарности» Тургенева и заключавшего свой анализ так: «Автор-рассказчик сохраняет полную власть над восприятием героев, его корректируя, дополняя, разъясняя» [Чудаков 1992, 73, 86, 92]. Об ограничениях «прямого психологического анализа» у Тургенева см.: [Маркович 1975, 24–28].)
Подведем некоторые итоги. Как мы старались показать, нарратологи-ческий инструментарий дает возможность поставить интерпретацию, которая всегда располагается в зоне между наукой и искусством и находится в перманентном неустранимом конфликте с поэтикой [Зенкин 2018, 29], на твердую почву верификации, даже учитывая, что «[г]ерменевтика в более или менее скрытом виде свойственна всякому нарратологическому описанию и анализу» [Шмид 2010, 13]. Использование нарратологическо-го анализа позволяет уточнить интерпретацию тургеневского шедевра, а именно – дать ответ на вопрос о том, что обеспечивает почти чеховскую (о затрудненности или невозможности коммуникации между персонажами (зачастую являющимися самыми близкими людьми) в художественном мире Чехова см.: [Степанов 2005]. Вообще сопоставление тургеневских «Стихотворений в прозе» и корпуса рассказов Чехова открывает в означенном смысле любопытную перспективу. Ср. хотя бы разнесенное по двум рассказам переживание горя от утраты сыновей персонажами «Тоски» и «Врагов» Чехова. В.И. Тюпа справедливо полагает, что Иона из «Тоски» не испытывает кризиса, в отличие от персонажей рассказа «Враги», хотя повод для горя в обоих рассказах идентичен – потеря сына [Тюпа 2018]) коммуникативную «стену» между барыней и бабой (ср. замечание Г.А. Маршалика, согласно которому «Щи» – вещь «о непонимании, мгновенно возникшем между людьми, которые оказались в ситуации, казалось бы, максимально способствующей пониманию» [Маршалик]). Наконец, такой подход позволяет отчетливо эксплицировать ответ, смутно чувствуемый читателем, а подчас (если вспомнить комментарии к соответствующему тому ПССиП Тургенева) и вовсе не чувствуемый.
Список литературы Нарратология как ресурс интерпретации: «стихотворение в прозе» И.С. Тургенева «Щи» в аспекте событийности
- Вдовин А. Бремя модернизации: патриархальные ритуалы, эмансипационная этика и исторические аллюзии в драме А.Ф. Писемского Горькая судьбина // Russian Literature. 2021. № 119. P. 43–69.
- Вдовин А. «Неведомый мир»: русская и европейская эстетика и проблема репрезентации крестьян в литературе середины XIX века // Новое литературное обозрение. 2017. № 141. С. 287–315.
- Вдовин А. Странный Тургенев? Загадка для литературоведов // Magisteria. URL: https://magisteria.ru/ivan-turgenev-and-his-time/strange-turgenev (дата обращения: 26.09.2023).
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М.: Intrada, 1999. 413 с.
- Зенкин С.Н. Теория литературы. Проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 368 с.
- Маркович В.М. Человек в романах И.С. Тургенева. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1975. 152 с.
- Маршалик Г.А. Понять человека // Русский язык и литература. URL: https://www.1urok.ru/categories/14/articles/56663?fbclid=IwAR3zGK1_ifsB-FsO-v7IU5Nc9DnQdGLrw201sKjgp2lJ5c2txtqRCdkgkMs (дата обращения: 26.09.2023).
- Орвин Д. Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой. СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. 351 с.
- Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: РГГУ, 2008. 845 с.
- Панченко А.А. Образ старости в русской крестьянской культуре // Отечественные записки. 2005. № 3(24). URL: http://www.strana-oz.ru/2005/3/obraz-starosti-v-russkoy-krestyanskoy-kulture (дата обращения: 26.09.2023).
- Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т. 10. М.: Наука, 1982. 608 с.
- Тюпа В.И. Чеховский рассказ: жанрообразующая роль кризиса идентичности // Narratorium. 2018. № 11. URL: https://narratorium.ru/2018/07/24/валерий-и-тюпа-москва-чеховский-расс/ (дата обращения: 26.09.2023).
- Чудаков А.П. Тургенев: повествование – предметный мир – герой – сюжет // Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель, 1992. С. 70–93.
- Шмид В. Изображение сознания в художественной прозе // Narratorium. 2017. № 1(10). URL: https://narratorium.ru/2018/04/03/вольф-шмид-гамбург-германия/ (дата обращения: 26.09.2023).
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. 304 с.
- Шмид В. Событийность, субъект и контекст // Событие и событийность: сб. статей / под ред. В. Марковича и В. Шмида. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2010. С. 13–23.
- Vdovin A., Zubkov K. New Approaches to Representations of Peasants in Russian Literature. Introduction // Russian Literature. 2021. № 119. P. 7–14.