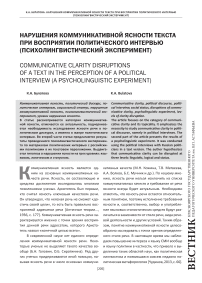Нарушения коммуникативной ясности текста при восприятии политического интервью (психолингвистический эксперимент)
Автор: Булатова Ксения Андреевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 2 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается категория коммуникативной ясности, отмечается ее актуальность, подчеркивается необходимость исследования ясности речи в политическом дискурсе, а именно в жанре политического интервью. Во второй части статьи предлагаются результаты проведенного психолингвистического эксперимента по материалам политических интервью с российскими политиками в их текстовом переложении. Выдвигается гипотеза о нарушении ясности на трех уровнях: языковом, логическом и статусном.
Коммуникативная ясность, политический дискурс, политическое интервью, социальный статус, нарушения коммуникативной ясности, психолингвистический эксперимент, уровни нарушения ясности
Короткий адрес: https://sciup.org/144154293
IDR: 144154293
Текст научной статьи Нарушения коммуникативной ясности текста при восприятии политического интервью (психолингвистический эксперимент)
Коммуникативная ясность, политический дискурс, политическое интервью, социальный статус, нарушения коммуникативной ясности, психолингвистический эксперимент, уровни нарушения ясности.
В статье рассматривается категория коммуникативной ясности, отмечается ее актуальность, подчеркивается необходимость исследования ясности речи в политическом дискурсе, а именно в жанре политического интервью. Во второй части статьи предлагаются результаты проведенного психолингвистического эксперимента по материалам политических интервью с российскими политиками в их текстовом переложении. Выдвигается гипотеза о нарушении ясности на трех уровнях: языковом, логическом и статусном.
K.A. Bulatova
Communicative clarity, political discourse, political interview, social status, disruptions of communicative clarity, psycholinguistic experiment, levels of clarity disruption.
The article focuses on the category of communicative clarity and its topicality. It emphasizes the necessity to study communicative clarity in political discourse, namely in political interviews. The second part of the article presents the results of a psycholinguistic experiment. It was conducted using the political interviews with Russian politicians in a text version. The author hypothesizes that communicative clarity can be disrupted at three levels: linguistic, logical and status.
m
Коммуникативная ясность является одним из основных коммуникативных качеств речи. Ясность, ее составляющие и средства достижения исследовались многими поколениями ученых. Аристотель был первым, кто считал ясность ключевым качеством речи. Он утверждал, что неясная речь не сможет «достичь своей цели», то есть быть правильно воспринятой адресатом речи [Античные теории..., 1936, с. 177]. Коммуникативная ясность речи ха- рактеризуется именно с точки зрения восприя- вой деятельности и других условий. Таким обра-
тия данной речи адресатом, которого Аристо- тель назвал «конечной целью всего».
В современной науке нет единого определения коммуникативной ясности речи. Неко- торые ученые не выделяют такого качества вообще (Б.Н. Головин, О.Б. Сиротинина). Ряд других ученых придерживаются иной позиции, называя ясность речи в числе основных коммуни- кативных качеств (М.Н. Кожина, Т.В. Матвеева, А.А. Волков, Б.С. Мучник и др.). По нашему мнению, ясность речи нельзя исключить из списка коммуникативных качеств и требование от речи ясности всегда будет актуальным. Необходимо отметить, что ясность речи остается относительным понятием, поэтому исполнение требования ясности и, соответственно, выбор и употребление языковых стилистических средств будут различаться в зависимости от стиля речи, вида рече- зом, понятие коммуникативной ясности целесо- образно исследовать с точки зрения определенного стиля речи. В настоящее время мы наблюдаем повышение интереса к языку СМИ вообще и языку политики в частности, что привело к выделению таких областей наук, как политическая лингвистика и появившаяся совсем недавно политическая метафорология [Чудинов, 2013, с. 66].
ВЕСТНИК
Объектом нашего внимания служит публицистический стиль, а именно жанр интервью в политическом дискурсе. Жанр интервью представляется наиболее интересным для исследования по нескольким причинам. Во-первых, это наиболее часто встречающаяся жанровая форма во всех видах политического дискурса. Во-вторых, в политическом дискурсе вообще и в политическом интервью в частности регулярно имеют место случаи нарушения ясности и возникновения двусмысленности выражения. Это может происходить как непреднамеренно, так и умышленно, когда политический деятель уклоняется от прямого ответа на вопрос и старается завуалировать свой ответ.
Текст обладает коммуникативной ясностью, если он понимаем для воспринимающего. «Сущность понимания состоит в таком преобразовании информации, при котором она приобретает для субъекта свой определенный смысл, выражающий активное отношение к содержанию знания, дающий возможность его дальнейшего использования в соответствующих данному смыслу ситуациях» [Гурова, 1989, c. 52]. Вообще, смысл и понимание выступают в единстве. Смысл служит в качестве «непременного момента человеческой мыследеятельности» [Богин, 2001, с. 13]. Смысл «схватывается» в отношении с миром, памятью и языком одновременно и представляет собой «важнейший предмет теории понимания» [Брудный, 1972, c. 6]. «Это – объект особого рода, присутствующий как бы везде и нигде. Во всяком случае, он не “находится” в тексте, как там находится типографская краска». Смысл текста – в «голове» читателя / слушателя / интерпретатора, поскольку, по сути, текст как бы «предлагает» для интерпретатора «инструкции» по поводу того, как «строить» этот смысл. Процесс понимания текста представляет собой постоянное «набрасывание» смысла. Осмысляя интерпретируемую отдельную часть текста, читатель / слушатель / интерпретатор «делает набросок смысла всего текста в целом. Но этот первый смысл проясняется, в свою очередь, лишь потому, что... интерпретатор с самого начала читает текст, ожидая найти в нем тот или иной определенный смысл». Понимание содержания текста «заключается в разработке такого предварительного наброска, который, разумеется, подвергается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в смысл текста» [Гадамер, 1988, c. 318]. «Понимание текста происходит в момент становления когнитивной гармонии. Когнитивное понимание текста и становление когнитивной гармонии тождественны» [Тармаева, 2003; 2011, с. 67]. «Феномен когнитивной гармонии выступает как необходимый механизм коммуникативного взаимодействия носителей языка и представляет собой смысловое согласование разнонаправленных смысловых интерпретационных версий» [Тармаева, 2009; 2011, с. 76].
Таким образом, придерживаясь определения коммуникативной ясности, предложенного В.И. Тармаевой [Тармаева, 2003; 2012], в соответствии с которым коммуникативная ясность при восприятии текста проявляется как составляющая когнитивной гармонии и возникает в момент согласования «авторского» и «читательского / слушающего» смыслов текста при восприятии, определимся также по поводу того, в какой момент проявляется коммуникативная ясность.
Согласно А.А. Залевской,схема«восприятие– понимание» текста предполагает три последовательные ступени. Первая ступень – первичное восприятие. На данном этапе происходят идентификация речевых сигналов, затем вычленение слов, определение языка сообщения. Вторая ступень – восприятие, сопряженное с частичным пониманием. Данная ступень представляет первый этап понимания, на котором происходит вычленение предложений. Наконец, третья ступень – собственно понимание. На данном этапе происходит извлечение смысла из высказывания с целью получения новой информации [Залевская, 2001, с. 90].
В связи с этим необходимо указать, что процессы понимания и производства текста, как отмечает А.А. Залевская, являются сходными, поскольку интерпретатор проходит те же этапы, что и автор текста при его создании. Более того, «опорные элементы смысловой программы, вербализованные автором текста», согласно А.А. Залевской, «становятся смысловой структурой текста, облегчающей воспринимаемому понимание текста» [Залевская, 2001, с. 91]. Итак, коммуникативная ясность при восприятии текста проявляется на третьем этапе «собственно понимания» [Залевская, 2001].
«Чудо понимания» на данном этапе заключается не в том, что «души таинственно сообщаются между собой, а в том, что они причастны к общему для них смыслу» [Гадамер, 1988, c. 38]. «Теперь читатель < … > становится писателем сам по себе» [Деррида, 1995, c. 109].
Конечно, такое описание сокращенно и упрощенно. «Становление когнитивной гармонии происходит как реализация предвосхищаемого сознанием предварения-предощущения целого и его последующей экспликации. Становление когнитивной гармонии сопровождает акт дивинации (дивинация – от лат. divinatio «предсказание, предчувствие, предпонимание будущего при помощи различных техник». Известно сочинение Цицерона «О дивинации») (Справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима, 2001), когда толкователь «целиком переносится» в автора текста, тем самым разрешая все непонятное и озадачивающее, что содержит в себе текст. Когнитивное понимание и становление когнитивной гармонии текста всегда предопределено забегающим вперед движением ди-винации (предпонимания, предсказания). Ди-винация создает известную установку на активный процесс дальнейшей интерпретации, при которой анализ совпадений или несовпадений с ожидаемой дивинацией также входит в процесс интерпретации. Дивинация имеет характер предположения интерпретатора об условиях дальнейшего действования в содержании целого текста. Дивинация предполагает операции: «(1) видеть смысловые связи, развертывающиеся в тексте; (2) видеть нарушения смысловых связей в тексте» [Тармаева, 2009; 2011, с. 89; 2012].
В целях данной статьи нами были отобраны интервью за 2014 год с Владимиром Владимировичем Жириновским и Виталием Владимировичем Кличко на радиостанции «Эхо Москвы»,
Виталием Ивановичем Чуркиным в «Российской газете» и на интернет-сайте «Политобзор». Интервью изучались в их текстовом переложении, поэтому нарушения ясности рассматривались с точки зрения коммуникативной ясности письменной речи. По материалам интервью была составлена подборка высказываний политиков в размере тридцати трех предложений, куда вошли высказывания, отмеченные нами как имеющие нарушения ясности. Данная подборка была предложена в форме опроса, в котором приняли участие 26 человек в возрасте от 18 до 52 лет, студенты и выпускники медицинского, юридического и педагогического факультетов университетов Красноярска. Респондентам предлагалось оценить высказывания по следующим критериям: «смысл ясен», «есть трудности в понимании», «смысл не ясен». Термин «смысл» понимается нами, вслед за А.А. Ивиным, как «внутреннее содержание, значение чего-либо, то, что может быть понято» [Ивин, 1997, с. 382]. С нашими прогнозами результаты в большинстве своем совпали – выражения, признанные нами как искажающие ясность, информаторами также были отмечены как неясные. Общее число отметивших графу «есть трудности в понимании» составило 24,5 %, графу «смысл не ясен» – 24,3 %. Чуть более половины опрошенных (51,2 %) сочли, что смысл высказываний был для них ясен. Примечательно, что большинство отметивших графу «смысл ясен» являются выпускниками юридического факультета. На наш взгляд, это вполне объяснимо, так как около 20 % высказываний были насыщены специализированной лексикой, которая встречается как в языке политики, так и в языке юриспруденции (например, эскалация и деэскалация конфликта, легитимность и др.).
Исходя из проанализированного нами материала, мы выдвинули гипотезу, что в политическом интервью ясность нарушается на трех уровнях, это языковой уровень, логический и статусный. Под языковым уровнем мы понимаем грамматические и синтаксические нарушения норм языка. Нарушения на логическом уровне предполагают выбор политиком тактик уклоне-
ВЕСТНИК
ния от ответа, отклонения от темы интервью, повторов, перебивов и др. Что касается статусного уровня, хотелось бы остановиться на нем более подробно. Сразу оговорим, что, вслед за В.И. Карасиком, под социальным статусом мы понимаем «соотносительное положение человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие взаимные ожидания поведения. При этом личностные характеристики человека отступают на второй план» [Карасик, 1991, с. 3]. Социальный статус человека, по сути, является набором социальных ролей, которые в зависимости от ситуации могут сменять одна другую. Социальный статус человека во многом обусловливает его поведение, то есть зачастую можно предсказать поступки человека, зная о его социальном статусе. В тех случаях, когда действия или высказывания человека не соответствуют его социальному статусу, у аудитории будет возникать чувство недоумения, раздражения и неприятия. В результате проведенного исследования на статусном уровне мы поместили такие нарушения ясности, как употребление политиком сниженной лексики, не подходящий ситуации комизм, а также отсутствие представления об общеизвестных фактах.
Приведем несколько наиболее ярких примеров нарушений ясности. Эти высказывания политиков были отмечены респондентами как наименее ясные. На языковом уровне, например, большинство опрошенных затруднились с пониманием высказывания В.В. Кличко: «Мохаммед Али был великий энтертейнмент». В данном случае политик использует иноязычную лексику, что при первичном восприятии вызывает недоумение. Так как английское слово entertainment многозначно, то не ясно, что хотел выразить политик. Еще один интересный пример из интервью того же политика: «Они начинают делать себе либо политические дивиденды, награждая людей, которые уже давным-давно ушли в прошлое, медалями, наградами…». В данном предложении неправильно употреблено слово «дивиденды», которое является экономическим термином и обозначает «доход, получаемый владельцем акции; представляет собой часть прибыли акционерного общества» [Гаца-лов, 2002, с. 89].
Говоря о логическом уровне, приведем пример из интервью В.И. Чуркина: «Несмотря на то, что украинская тема продолжает восприниматься членами СБ весьма обостренно, за истекший месяц, как представляется, удалось продвинуться в деле мобилизации ресурса ооновской “площадки” в интересах мирного урегулирования затянувшегося внутриполитического кризиса на Украине». Пониманию смысла здесь мешают, во-первых, использование аббревиатуры (СБ – Совет Безопасности ООН), во-вторых, цепочка из трех существительных подряд, в-третьих, использование словосочетания «ооновская “площадка”» без дополнительных пояснений, что вызывает трудности в понимании смысла. Еще один пример с нарушением на логическом уровне из интервью В.В. Кличко: «Для того чтобы европейские политики сказали, что двери открыты, и дали возможность, и все остается в руках у Януковича – сделать». В данном примере пониманию смысла мешает недостаточность, фраза не завершена логически.
Часто в пределах одной фразы можно зафиксировать нарушения на нескольких уровнях. Например, в высказывании В.В. Кличко: «Можете себе представить, что в России живет… Я сначала пример России, а потом возьму параллель. Потому что лучше примерить рубашку к себе, всегда намного лучше». На логическом уровне налицо недостаточность, на языковом – нарушение лексической сочетаемости (взять параллель вместо провести параллель и некорректный смысловой перенос пословицы «своя рубашка ближе к телу»). Приведем еще одно высказывание В.В. Кличко с нарушениями на нескольких уровнях: «Я еще раз хочу подчеркнуть, если такие высказывания не идут вразрез каким-то ключевым принципам, я не обращаю на это внимание – это было бы хождение по судам и занятие тем, что кто-то, якобы, перефразировал фразы или, там, дописал, додумал». На языковом уровне наблюдаем неправильное употребление словосочетания «идти вразрез», которое употребляется только с предлогом «с», неправиль- ное склонение существительного в словосочетании «не обращать внимание». На логическом уровне видим недостаточность.
На статусном уровне приведем несколько примеров употребления сниженной лексики. Из интервью В.В. Жириновского: «Нет, не удивлен, я об этом знал. Нужно было всех послов гнать, и покойного Черномырдина. Зурабова оттуда выгнать, Россотрудничество разогнать, сидит там товарищ наш, бывший депутат – ни черта не делают». И еще один пример, нарушения на всех трех уровнях: «Разве можно за коммунистов голосовать? – нельзя. “Справедливая” – это мутота, разве можно? “Единая” – рухнула. Сегодня “Партия регионов” Украины – рейтинг 3 %, а был 30. Поэтому сегодня единственная партия – “Яблоко” уже сморщилось до конца, никого нет». На статусном уровне видим употребление сниженной лексики (мутота, ни черта не делают), на языковом отсутствие согласования, на логическом – недостаточность.
Из проведенного исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, коммуникативная ясность является одним из основных качеств речи и характеризуется со стороны восприятия и понимания речи адресатом. Во-вторых, изучение коммуникативной ясности и ее нарушений в политическом дискурсе, в особенности в жанре политического интервью, остается крайне актуальным. В-третьих, проведенный эксперимент позволил выдвинуть гипотезу о том, что в политическом интервью коммуникативная ясность нарушается на трех уровнях – языковом, логическом и статусном. Зачастую в одном предложении можно встретить несколько уровней нарушения коммуникативной ясности.
Список литературы Нарушения коммуникативной ясности текста при восприятии политического интервью (психолингвистический эксперимент)
- Античные теории языка и стиля: кол. монография/отв. ред. О.М. Фрейденберг. М.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1936. 334 с.
- Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. Тверь, 2001. 320 с.
- Брудный А.А. Семантика языка и психология человека. Фрунзе, 1972. 272 с.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Гадамер. М., 1988. 452 с.
- Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник. Ухта: УГТУ, 2002. 371 с.
- Гурова Л.Л. Знания и творчество//Формы представления знаний и творческое мышление. Новосибирск, 1989. Ч. 2. 247 с.
- Деррида Ж. Письмо и различие/пер. А.В. Гараджа. СПб.: Академический проект, 1995. 154 с.
- Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь: Твер. ун-т, 2001. 177 с.
- Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М.: ВЛАДОС, 1997. 384 с.
- Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Институт языкознания АН СССР, Волгоградский педагогический институт, 1991. 495 с.
- Тармаева В.И. Дивинация событий как установка когнитивной гармонии в повествовательном дискурсе//Филология и человек. 2012. № 3. С. 86-95.
- Тармаева В.И. Когнитивная гармония как механизм интерпретации текста: дис. … д-ра филол. наук. Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2011.
- Тармаева В.И. Когнитивное понимание асимметрии именных и предикативных отношений в английском языке: монография. Иркутск: ИГЛУ, 2003. 275 с.
- Тармаева В.И. Основные положения теории когнитивной гармонии в языке: монография. Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2009. 235 с.
- Чудинов А.П. Принципы Уральской школы политической метафорологии//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. № 1 (23). С. 66-72.