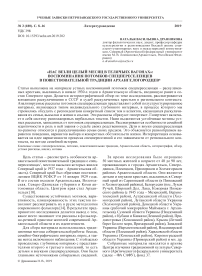"Нас везли целый месяц в телячьих вагонах": воспоминания потомков спецпереселенцев в повествовательной традиции архангелогородцев
Автор: Дранникова Наталья Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (180), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья выполнена на материале устных воспоминаний потомков спецпереселенцев - раскулаченных крестьян, высланных в начале 1930-х годов в Архангельскую область, входившую ранее в состав Северного края. Делается историографической обзор по теме исследования, рассматриваются концепции раскулачивания в СССР и судеб раскулаченных крестьян в региональном контексте. Анализируемые рассказы потомков спецпереселенцев представляют собой полуструктурированное интервью, являющееся типом индивидуального глубинного интервью, в процессе которого мы стремились обсудить с респондентами конкретный список тем и аспектов, касающихся раскулачивания их семьи, высылки и жизни в ссылке. Эти рассказы образуют гипертекст. Гипертекст включает в себя систему разножанровых вербальных текстов. Нами выделяются устойчивые мотивы устных рассказов, записанных от потомков спецпереселенцев. Рассматриваются особенности семейной идентичности и роль в ней знания о судьбе своих родственников. Дети и внуки спецпереселенцев по-разному относятся к раскулачиванию семьи своих предков. Это объясняется разнообразием вариантов поведения, вариантов выбора и конкретных обстоятельств жизни. Интерпретация основывается на идее вариативности процесса спецпереселений и его зависимости от регионального контекста, на методе семейной истории.
Спецпереселенцы, потомки, повествовательная традиция, архангельская область, историография, обзор, устные рассказы, анализ, мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226441
IDR: 147226441 | УДК: 398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.302
Текст научной статьи "Нас везли целый месяц в телячьих вагонах": воспоминания потомков спецпереселенцев в повествовательной традиции архангелогородцев
Цель статьи - рассмотреть особенности архангельской повествовательной традиции о спец-переселенцах1, местом высылки которых явился Северный край (с 1937 года - Архангельская область). Северный край был образован постановлением ВЦИК РСФСР от 14 января 1929 года. В его состав входили Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская губернии и Коми автономная область. Центром края стал Архангельск [10].
Существование устойчивых мотивов, вариативность, клишированность этих текстов позволяют рассматривать их в русле методологии современного фольклора [14]. В результате предпринятого исследования делается вывод о том, какое место занимают эти рассказы в фольклорно-речевой практике жителей современной Архангельской области и их идентичности.
Для сбора материала использовались традиционные методы собирательской работы: беседа, семейно-биографическое интервью, опрос, а также метод включенного наблюдения. С этой целью проводились глубинные интервью с представителями второго и третьего поколений, то есть детьми и внуками спецпереселенцев. Они были главными источниками собираемых сведений.
За время исследования было опрошено 50 местных жителей в возрасте от 40 до 90 лет, проживающих в городах Архангельск, Северодвинск, Плесецком, Приморском и Холмогорском районах Архангельской области. Они являются детьми и внуками крестьян, высланных в Северный край из Саратовской области (в Пинежский и Холмогорский районы), Белоруссии (пос. Луков Ручей, Широкий Дол, Лака, Кокорная Пинеж-ского района (с 1945 года - Мезенский), Верхне-тоемский район), Астраханской области (Холмогорский район), Луганской области Украины (Холмогорский район), Донецкой области Украины (рабочий микрорайон Маймакса г. Архангельска), Сумской области Украины (Няндомский район), с Кубани и Кавказа (Ленский район), Приднестровья (Коношский район), Крыма (Летний берег Белого моря, Приморский район), Западной Украины (Верхнетоемский район), Владимирской области (Плесецкий район), Харьковской области Украины (Коношский район), Кировоградской области Украины (Приморский район) и мн. др.
Собранные материалы находятся в архиве Центра изучения традиционной культуры Северного (Арктического) федерального университета (далее – ФА САФУ), фонд 37.
Одним из первых сторонников новой концепции проблемы раскулачивания в СССР и судеб раскулаченных семей является доктор исто -рических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета В. Я. Шашков. В его работах впервые в историографии процесс раскулачивания в СССР рассматривается комплексно, во всей совокупности политического, социально-экономического, правового и философско-культурологического аспектов: от разорения крестьянских хозяйств до депортации раскулаченных семей в отдаленные регионы страны, создания ГУЛАГовской системы спецпоселений, использования труда спецпереселенцев, их социального, медицинского, культурного обслуживания, участия «бывших кулаков» в Великой Отечественной войне, восстановления их в гражданских правах до ликвидации в 1954 году системы спецпоселений в СССР [33], [34], [35], [36], [37].
Большой вклад в изучение истории спец-поселений в Северном крае внес Н. В. Упады-шев [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]. Он впервые осуществил теоретико-методологическое исследование региональной составляющей ГУЛАГа в контексте истории страны и региона. На основе анализа комплекса причин и факторов, обусловивших зарождение советской системы исправительно-трудовых лагерей, он определил место и роль Европейского Севера России в этом процессе. В диссертации Н. В. Упадышева дается трактовка используемого в научной литературе понятийного аппарата (ГУЛАГ, исправительно-трудовой лагерь, спецпоселение, спецколо-низация, спецконтингент, «кулацкая ссылка» и др.). Используя в качестве базового понятие «ГУЛАГ», автор определяет его в двух основных значениях. В узком смысле Главное управление лагерей трактуется как одно из ведомств советской карательно-репрессивной системы, осуществлявшее руководство деятельностью входивших в его состав структурных подразделений (исправительно-трудовые лагеря и колонии, спецпоселения и др.). В широком значении ГУЛАГ представляется как социальный институт («государство в государстве»). Н. В. Упады-шев раскрывает причины образования и функционирования системы спецпоселений [23].
Анализ демографической ситуации в Север -ном крае первой трети ХХ века предпринял в своей монографии В. И. Коротаев. Это первое специальное исследование, посвященное демографическим последствиям применения труда спецпереселенцев и заключенных в регионе [8].
Е. В. Хатанзейская на основе неопубликованных архивных документов проанализировала процесс спецколонизации Северного края, осуществляемый за счет применения труда нескольких категорий спецконтингента (заключенных, административно-высланных и спецпереселен- цев). Исторический анализ процесса спецколо-низации произведен ею сквозь призму истории краевого центра - г. Архангельска. Промышленность города и его портовая инфраструктура были ориентированы в основном на формирование золотовалютного резерва страны для проведения индустриализации. Исследовательница приходит к выводу, что из-за хронического дефицита кадров, материальных и трудовых ресурсов быстрое увеличение темпов промышленного производства, колонизация удаленных районов страны и индустриализация представлялись невозможными без экстренных мер контрактации рабочей силы, в частности использования труда значительных партий спецконтингента. В 1929 году начинается процесс коллективизации, сопровождающийся высылкой на Север первых партий спецпереселенцев, ставших основной рабочей силой в лесопильной промышленности края и, наряду с другими категориями спецконтингента (в особенности ссыльными специалистами), создавших условия для увеличения промышленного производства и индустриализации СССР [31].
Н. М. Игнатова в своих работах рассматривает причины масштабного использования принудительного труда и численность занятых на лесозаготовительных предприятиях Северного края в 1930-е годы (Республика Коми, Архангельская и Вологодская области), а также условия труда спецпереселенцев – «бывших кулаков». В Северном крае спецпереселенцы использовались для ускоренного развития лесозаготовительной отрасли. Она делает вывод, что труд спецпереселенцев был результативен, так как привел к резкому росту лесозаготовок, но не был эффективен с точки зрения индивидуальной производительности труда и вложенных затрат по причине тяжелых условий труда и быта и высокой смертности. Также Н. М. Игнатова освещает организацию культурно-просветительской и идеологической работы в спец-поселках Республики Коми в 1930-е годы, куда были высланы в административном порядке на спецпоселение «бывшие кулаки» из районов сплошной коллективизации. Она приходит к выводу о том, что главной целью перевоспитания спецпереселенцев в «активных строителей социалистического общества» были повышение производительности труда и закрепление спец-переселенцев на лесозаготовительных работах в спецпоселках [6], [7].
Локальными исследованиями процессов спец-переселения на Кольском полуострове занимаются И. А. Разумова и О. В. Змеева [5], [18]. В работах И. А. Разумовой, в отличие от большинства исторических исследований, семья спецпересе-ленцев рассматривается не в качестве жертвы российской модернизации, а в роли социального актора и субъекта принятия решений [5].
В зарубежной науке есть исследования, посвященные воспоминаниям раскулаченных крестьян (Виола Линн, Ольга Литвиненко, Джеймс Риордан, Шейла Фицпатрик и др. [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]). Зарубежные исследователи пишут о раскулаченных как жертвах советского режима, о том, что они после перестройки «сорвали маски» и заговорили о своих судьбах, сохранили свою идентичность и проявили себя как школа выживших.
Виола Линн называет репрессирование крестьян, происходившее в начале 1930-х годов, «одним из самых отвратительных действий Сталина», которое заложило основы ГУЛАГа. Ее книга «Неизвестный ГУЛАГ» – первое издание на английском языке, в котором исследуется история раскулачивания и депортации крестьян для принудительной работы на различных объектах социализма. Исследователь пишет о повседневной жизни спецпереселенцев и рассказывает истории крестьянских семей [40].
Политическим решением, определившим переход к политике форсированной коллективизации и раскулачивания, стало принятое 5 января 1930 года постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» [19]. Конкретизацию политика раскулачивания получила в постановлении ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» [16: 70–76]. Начиная с зимы 1929/30 года имущество крестьянских хозяйств, признанных «кулацкими», последовательно экспроприировалось, а несколько миллионов кулаков подверглись административной высылке. Крестьяне-кулаки были разделены на три категории в соответствии со степенью опасности, которую они предположительно представляли для советской власти. Членов первой группы, «контрреволюционный кулацкий актив», сочли неисправимыми, закоренелыми врагами советской системы; тысячи из них были казнены. Кулаки второй и третьей категорий считались менее политически активными и, стало быть, менее опасными; их высылали в более или менее отдаленные места в зависимости от степени выраженности у них антисоветских настроений [16: 70–76]. Составной частью этой масштабной в геополитическом пространстве бывшего СССР проблемы стал Северный край и те процессы, которые происходили в нем в период «кулацкой» ссылки. В 1930 году Северный край был самым крупным регионом спецпоселений раскулаченных семей. Строительство спецпоселков для высланных «кулаков» намечалось в безлюдных лесных массивах края, так как основная масса спецпереселенцев должна была быть постоянной рабочей силой в лесной промышленности. В Северный край спецпере-селенцы стали прибывать с 25 февраля 1930 года эшелонами по 1500–1800 человек по двум основным магистралям края: Вологда – Архангельск, Вятка – Котлас [11].
В результате операции по раскулачиванию в Северный край было сослано более 300 000 человек [36: 122]. В самом Архангельске в начале 1930-х годов резко увеличилось количество спецпереселенцев. К началу 1932 года спецпе-реселенцы, административно-высланные и другие «чуждые элементы» трудились на заводах, стройках Архангельска и его окрестностей [8: 38]. Это привело к более сильному противопоставлению центра города и его окраин в сознании горожан и маргинализации пригородов. Только за 1930–1931 годы население Архангельска удвоилось [9: 143].
Все более ужесточившаяся аграрная политика государства вынуждала крестьян отрываться от земли и искать работу на стороне. Они все больше превращались в скитальцев и временщиков. Это качество временщика резко обострилось в годы предвоенных пятилеток. Процессы, происходящие в стране, в большой степени оказали влияние на культурный облик Архангельска. Наряду со спецпереселенцами в Архангельск хлынули массы «индустриальных новобранцев» и невольников ГУЛАГа.
В докладной записке «О размещении и устройстве кулацких хозяйств в Северном крае» (1930) говорится о плане правительства, в соответствии с которым предполагалось к 15 апреля 1930 года ввести в Северный край 45 000 семей, а к осени довести их число до 75 000 [8: 36]. В процессе реализации плана было решено значительную часть раскулаченных направить в восточную малонаселенную часть Северного края. По официальным данным, в 1930–1931 годах в Северный край было выслано 285 609 спецпереселенцев. В. Я. Шашков в результате проверки уточнил их количество и определил действительную, как ему представлялось, численность – 300 922 человека [36: 122].
11 апреля 1931 года крайком партии решил добавить своих «кулаков» (около 3000 семей – 12000–15000 человек) к ввозимым извне и отправить их на Пинегу и Мезень, Печору и в Коми АО. В тот же день принято специальное постановление «О заселении Печоры» [8: 36].
Внуки старожилов г. Архангельска вспоминают:
Я с детства помню рассказы моей бабушки о том, что в конце 20-х, начале 30-х годов на улицах Архангельска лежали трупы, которые долго никто не убирал. Это были умершие от голода «раскулаченные», которые семьями были высланы в Архангельск, не имели никаких средств для жизни, целыми семьями просили подаяние, а им отказывали оттого, что самим было нечего есть, а чаще – от жестокости (М., 44).
Высылка такого количества людей привела к демографической катастрофе на территории современной Архангельской области. Степень готовности местных властей к приему спецпосе-ленцев была равна нулю [3: 396–397].
Воспоминания потомков записаны в виде семейно-биографического интервью, которое в нашем случае было фокусированным или нарративным. В статье мы опираемся на классификацию речевых жанров, предложенную М. М. Бахтиным [1]. Устный рассказ он относит к первичным речевым жанрам. По мнению ученого, он возникает во время диалога. К. В. Чистов подчеркивал трудности выделения устного рассказа из обыденной речи [32]. Наряду с термином «устный рассказ», нами в статье используется термин «семейно-биографический хроникат» – это устный рассказ, или бессюжетная краткая информация, отличающаяся «фрагментарностью и ослабленной внутритекстовой когезией» [17]. Термин относится к рассказам, в которых повествуется об истории семьи за длительный период времени. Семейные тексты существуют в следующих видах: представительские, репрезентирующие, внутренние.
Как показало наше исследование, внуки плохо знают историю своих дедов. В их памяти сохранились обрывочные сведения о биографии своих предков. История семьи лучше известна детям спецпереселенцев, которые сами жили в спец-поселках. Выделим основные мотивы этих рассказов. Первый их них – это раскулачивание семьи . Он сохранился плохо. Как мы полагаем, это связано с социальной стигматизацией, которая возникала, когда семью причисляли к группе «кулаков», и желанием оградить детей и внуков от этого знания. Приведем примеры:
Деда я понимаю почему (раскулачили. – Н. Д. ) – у них наделы, даже мельница была. Наемный труд. А маму почему, не знаю, как Рая мне рассказывает, кто-то донес на них. У меня единственная сестра есть, так она их, говорит, в одночасье. А вот брата его не тронули или он их продал. Маме моей лет пять было, с мачехой уже выслали вдвоем. А отец, дед-то мой, его в Вологде высадили где-то, он пропал, сгинул2 (М., 1942 г. р.).
Нет, они высланные – подкулачники, не кулаки, а подкулачники. Пожалели соседа, ну, стали заступаться за соседа, который, ну, это мама рассказывала, у которого, значит, и хозяйство было хорошее, четыре сына, ну, естественно, четыре мужика – это четыре мужика. Вот крепкий хозяин. Ну, в то время – раскулачить. Ну, вот мамин отец стал заступаться. «А-а-а, заступаешься? В те же сани, пошли на севера!» (М., 1944 г. р.)
Приведенные тексты являются неполными и фрагментарными и относятся к внутренним текстам семьи, которые были воспроизведены в ответ на наш вопрос.
Лучше сохраняется мотив переезда / высылки семей спецпереселенцев в Северный край
– в вагонах для скота, в товарных вагонах
Высылали – всех не спрашивали, сами-то, считай, голые были, да все отобрали, голых отправили, прям, нас (Ж., 1925 г. р.).
Их везли целый месяц в телячьих вагонах (Ж., 1962 г. р.).
Раскулачили ничем неповинную семью в 1937– 1938 году. В ночь ни с того, ни с сего приехали люди, приказали запрягать лошадей и покидать дом. Транспортировали в скотовозах в поселок Верхний Чов в Сыктывкаре. После того, как довезли до железной дороги, посадили в скотовозы, через реку на плоту доплыли до поселка. Молодых посадили на плоты, а старики тянули его (Ж., 1941 г. р.);
– в трюмах барж
– До Архангельска раскулаченных везли эшелоном. Затем погрузили на баржу и доставили в Усть-Пинегу, ехали в сыром трюме вместе с крысами [15: 127];
– переезд из пересыльного или фильтрационного пункта (Архангельска, Вологды, Котласа, Емцы) до места назначения
Первоначально приехавших разместили в фильтрационном пункте – поселке Емца Плесецкого района, в наскоро построенных бараках-шалашах (Ж., 1939 г. р.);
– высадка на место будущего места проживания: в снег / в чистое поле / дикий лес и др.
Вот, и, значит, там они высадили их на болоте, их возили по области, тут они были и на острове Жиж-гин, и на Сийских озерах останавливались, большую толпу, не только там их возили тысячами, на барже там до Котласа везли, очень много значит. А в итоге вот остановились на болоте, чистое, ну, лес, в лесу. И вот высадили их там – живите, как хотите, да. Они там сначала землянки вырыли, чтоб как-то укрываться от непогоды с настилом. А потом начали заготавливать лес, лес там кругом лес, и строили бараки, не дома даже, а бараки. (М., 1939 г. р.).
…Их же раскулаченных вот выселят на берег, пустой берег, вот живите здесь… (Ж., 1936 г. р.);
– голод
Но очень удивительно, здесь даже есть то, что в наших местах поселения люди хоть и бедно жили, впроголодь и без жилья вначале все, но все нормально. А здесь даже места есть, где люди людей ели – это в Яренске или еще где-то (М., 1939 г. р.).
Сестра мамина тоже умерла по дороге. Жрать-то нечего было. Ну, я уж так попросту говорю: «Не есть, а жрать». Так оно и было, че там говорить (М., 1944 г. р.);
– полное отсутствие условий для жизни
Условия-то были нечеловеческие – в землянках жить в морозы это. Под дождем, сушить негде было это все, так что отношение, конечно, было, понятно какое. И так было вот до каких пор? До войны, до войны было, очень там худо жили (М., 1949 г. р.).
Привезли туда в такой длинный-длинный барак. В этих бараках там столько нас много, и одна железная плита была. Двухъярусные были эти, как ее, кровати. И вот там грелись мы все, считай, чуть полуголые (Ж., 1925 г. р.).
Все пережили – не дай Бог никому столько пережить! Мне вот было пять лет – я и то все помню. Как мы ехали, как нас послали туда, как мы жили. Мама на нас ляжет – дует-дует на нас, чтоб мы не озябли-то. Попробуй-ка: одна печка железная, а целый барак нас народу (Ж., 1925 г. р.).
Некоторое время после смерти матери жили в приемнике при тюрьме. Большое одноэтажное здание, потолок был подкреплен стойками. Соседи, люди, участвующие в войне, так же жили в бараках. Люди воевали, возвращались, и их снова посылали в тюрьму (Ж., 1943 г. р.);
-
– обустройство места для жизни
Ой, бабушка говорит, сначала старики все были хваткие. Ну, все же работяги, ну, в смысле трудились много они. Сначала в шалашах жили, а потом, говорит, срубили какой-то барак не барак. Но, по крайней мере, по-черному даже, дак, говорит, топили. А потом уже глины полно там было, кирпичные, а потом бараки начали строить (М., 1941 г. р.);
-
– эпидемии, болезни, высокая смертность
А смертность была страшная. У нас до сих кладбище сохранилось. Детей умерло маленьких там, год рождения указан, так в каком году родился, в том и умер или через год. И взрослые тоже умирали много (М., 1949 г. р.).
Марусенька там умерла у нас одна. Так похоронили ее туда в тину. Завернули ее вот так в тину, даже гробов не давали делать (Ж., 1925 г. р.).
Пока по оврагам хоронили людей, от голода и бессилия умирал другой. Где умер, там и закопали. Могилы безымянные, лежит на земле камень, значит, здесь человек похоронен (М., 1941 г. р.);
-
– тяжелый труд
Вся жизнь – это тяжелейший труд, хлопоты, заботы, адский ручной труд на гипсовом карьере, в лесу (М., 1939 г. р.).
Там выживать надо было, выживать, в первую очередь выживать (М., 1949 г. р.).
Ой, сколько испытали, батюшки! Вот так и жили. И приехали сюда тоже в бараках жили. Папа работал, тут вон все кругом лес был. Это все вот наши реабилитированные (репрессированные. – Н. Д. ) пилили. Раньше-то ведь пилили этой ведь, пилой, вот так по снегу ходили. Надо план выполнить было. Наши-то родители испытали тоже много кое-что. Грузили тогда веревками, шпалы-то носили на себе (Ж., 1925 г. р.);
Мама с четырнадцати лет работала в лесу, на вывозке леса. Бабушка тоже была на вырубке леса, то есть оставила там все свое здоровье (Ж., 1962 г. р.);
-
– нормативно-правовые ограничения (на выезд из поселка и др.)
-
О , даже в район надо, например, съездить, вот обязательно у коменданта надо брать эту, бумажку или справку. Без разрешения это считалось, это вообще… Даже в сельсовет вот Быстрокурье через реку нельзя, ну, до Усть-Пинеги (6 километров. - Н. Д. ) тут свободное было перемещение. Бабушка говорит, не было этих ограничений (М., 1941 г. р.);
-
– бегство с места высылки или работы
Отец, когда сбежали они, как бабушка рассказывала, где-то за Березником3 работали, то на бревнах приплыли по Двине домой, уже морозы начинались… <…> …у них было уже по три бревна связано заранее там где-то. …А на вторую ночь напарник у него где-то отплыл, говорит, в какой деревне, бабушка и деревню не помнит, но ему раньше надо было - тоже сосланный был. А наш-то отцепился от плота, раньше приплыл. А там еще надо Пинегу, надо было пройти как-то через Пинегу. Холода уже начались. Дак он, говорит, так это <неразборчиво> бабушка говорит, пришел когда домой, то как кол на нем вся одежда было. Дак вот от Усть-Пинеги до нас еще дорога 6 километров4 (М., 1941 г. р.).
Рассказы потомков спецпереселенцев представляют собой полуструктурированное интервью, являющееся типом индивидуального глубинного интервью, в процессе которого мы стремились обсудить с респондентами конкретный список тем и аспектов, касающихся раскулачивания их семьи, высылки и жизни в ссылке. Эти рассказы образуют гипертекст. Гипертекст включает в себя систему разножанровых вербальных текстов. Это «некое информационное пространство, позволяющее разрушить формальную обособленность отдельного конкретного текста, в него помещенного, за счет создания системы связей, служащих объединению этих отдельных текстов в сверхтекстовые единства» [4: 106–107]. Все эти тексты были внутренними текстами семьи до начала реабилитации, которая началась в 1989 году, в некоторых семьях они продолжают оставаться внутренними до сих пор, в части других – стали репрезентирующими. Это объясняется местом проживания, образования и тем, как осмыслена память о репрессиях местным сообществом.
Архангельские спецпереселенцы работали преимущественно на предприятиях лесной промышленности, в том числе на лесозаводах г. Архангельска, рубщиками леса в Пинежском и Приморском районах [13], Холмогорском, Верх-нетоемском, Ленском районах, сплаве леса, занимались производством кирпича, бондарным, шорным, столярным производством, кузнечным делом, промыслом рыбы, делали скипидар, сельским хозяйством, заготовкой водорослей в пос. Кислуха и Сосновка (на Летнем берегу Белого моря). В спецпоселках в качестве альтернативы колхозам создавались неуставные сельскохозяйственные артели. Спецпереселенцы умели трудиться. О том, каких результатов они добились за несколько лет тяжелого труда, можно говорить на примере пос. Ледня Ленского района. Здесь уже к середине 1930-х годов они сеяли зерновые, садили капусту, первыми в районе начали выращивать огурцы и помидоры, семена для этих культур переселенцам присылали по почте их родственники. Для этого были построены парники. После снятия урожая все выращенные овощи полностью увозили в районный центр, не оставляя ничего самим спецпереселенцам [20].
В спецпоселках была поселковая комендатура: комендант и милиционер. Чтобы отлучиться, надо было просить разрешение у коменданта. Детей спецпереселенцев не принимали в октябрята и пионеры, но в 1933 году начинается восстановление детей в избирательных правах с момента достижения ими совершеннолетия5. Это делалось для того, чтобы оторвать детей от родителей. До 1935 года спецпереселенцы были лишены избирательных прав. Они не имели права вступать в профсоюз. Ограниченно их призывали в Красную армию. Запрещались отлучки спецпереселенцев из спецпоселков и мест работы, их переписка с родственниками [2]. Все письма читались комендантом. Много спецпоселков находилось на Летнем берегу Белого моря. По словам потомков, поселки были большими. Жили высланные в бараках, в которых размещалось много семей. В каждом из поселков было по 7–10 бараков. Например, в поселке на острове Жижгин (Приморский район Архангельской области) в 1940–1960-х годах проживало около 1500 человек, которые размещались в 10 жилых бараках [29]. Имущество поселков, постройки, скот и инвентарь находились в собственности государства. Для выплаты возвратных ссуд из зарплаты удерживалось 25 процентов в госдоход [3: 399]. Постепенно спецпере-селенцев стали восстанавливать в гражданских правах. Система спецпоселений существовала до 1954 года, окончательно режим был снят в 1956 году.
Во время интервью дети спецпереселенцев отмечают различное отношение к себе со стороны местных жителей. В некоторых поселках отношение к ним было плохим, уничижительным, местные жители боялись общаться с ними (Верх-нетоемский район, Пинежский район), сверстники дразнили «кулаками» и «куркулями» (Холмогорский район), между ними происходили драки.
Ну, че еще рассказать, учились мы здесь. Нас презирали, все время презирали. Там че-то дают вот этим так ученикам, а нам нет, потому что мы были реабилитированные (репрессированные. – Н. Д. ). А за что реабилитированные, не знаю (Ж., 1925 г. р.).
И приехали сюда: «Куркули! Куркули!» – нас все время дразнили. А за что мы куркули? Мы-то че понимали? Мы работали с малых юных лет (Ж., 1925 г. р.).
Но вот, я помню, в школе мы учились, учителя к нам относились заметно не так, как к местным. Хоть не обзывали, не оскорбляли, но отношение было такое предвзятое. Я помню, мне и характеристику написали, когда школу закончил, характеристики писали тогда, я щас не знаю, пишут, нет. Дак меня с той характеристикой, что написали, не приняли бы никуда, в учебное заведение, там так написано было, отец, помню, ходил в школу к директору, просил переписать, на колени падал, дак что, говорит, куда он с такой характеристикой (М., 1949 г. р.).
О доброжелательном отношении местных жителей к спецпереселенцам записаны воспоминания их потомков в пос. Кислухе и Сосновке, расположенных на Онежском полуострове Белого моря (Приморский район):
Мы прожили в хорошем месте и среди таких прекрасных людей Севера. Таких людей, как на Севере, нигде нет. Люди Севера, низкий вам поклон от нас, живых и ушедших [30].
Исключением является увековечение памяти о крестьянах, насильно депортированных в Северный край, самими местными жителями. В 2008 и 2010 годах на территории бывших спецпоселков Лопатка и Кега Приморского района были установлены памятные обелиски. В 2012 году в бывшем пос. Конюхово по инициативе жителя д. Пушлахта Руслана Сакеева силами местных жителей был установлен поклонный крест на месте кладбища спецпереселенцев и часовня на месте поселка [30].
Опрошенные нами старожилы, проживающие в различных районах Архангельской области, отмечают высокий культурный и профессиональный уровень высланных: «Они, раскулаченные люди, народ был умный, грамотный, такой собранный» (Ж., 1936 г. р.). Во время опроса нам приходилось слышать о том, что спецпереселен-цы привезли с собой музыкальные инструменты, неизвестные местным жителям, например мандолины, играли на них, были хорошо образованны (М., 1928 г. р.).
Информация о некоторых спецпоселках скрывалась. Приведем конкретный пример. В 2013 году была опубликована статья В. А. Мелехова о топографической экспедиции 1947 года, маршрут которой прошел по труднодоступной территории, прилегающей к реке Кулой, которая протекает в Мезенском и Пинежском районах Архангельской области [12]. В. А. Мелехов сам был ее участником. Экспедиция продолжалась в течение нескольких месяцев. Неожиданно для себя ее участники обнаружили пустой поселок по реке Нырзанге – притоку Кулоя, о существовании которого не знали местные жители и который не был нанесен ни на одну из карт6.
Многим из наших респондентов – внуков спецпереселенцев была неизвестна история их семьи, что объясняется умалчиванием и табуи-рованием этой темы в советский период, а также социальной стигматизацией, вызванной раскулачиванием. В СССР в семьях не было принято говорить о советской истории, потому что это было опасно, у значительной части людей родственники были репрессированы или сидели, и считалось, что с детьми об этом было лучше не говорить, поэтому потомки спецпереселенцев плохо знают историю своих семей. Одной из причин молчания был страх. Потомки репрессированных опасались осуждения со стороны начальства или преданных властям лиц, задержек в продвижении по месту работы, исключения, увольнения, ареста и др. Людям было трудно говорить об унижении, издевательствах, пытках, насилии, которые пережили члены их семей. Одна из участниц, проецируя на меня свой страх, спросила меня, не боюсь ли я проводить такое исследование. Дети и внуки спецпереселенцев по-разному относятся к раскулачиванию семей своих предков. Это объясняется разнообразием вариантов поведения, вариантов выбора и конкретных обстоятельств жизни. Большинство из них считают, что это было несправедливо, что их предки были трудолюбивыми и умными людьми, сумевшими организовать свою жизнь и добиться благодаря этому благосостояния своей семьи. Реже приходилось слышать, что раскулачивание было справедливым, так как в семье родителей использовался наемный труд.
Часть из опрошенных нами внуков отстраненно относилась к истории раскулачивания их дедов до моего интервью с ними. Осознание важности этого события в истории семьи иногда происходило в процессе нашего общения. Для них данная информация ранее была неактуальна, что объясняется умалчиванием и табуиро-ванием этой темы в советский период, а также социальной стигматизацией, вызванной раскулачиванием. Меньшая часть внуков воспринимает историю раскулачивания и высылки своей семьи как продолжающуюся, они продолжают жить в ней: ищут родовые дома, конфискованные во время раскулачивания, и информацию в архивах, заказывают картины с изображением родовых домов и деревень. Отношение во многом зависит от уровня образования и воспитания в семье. Практически никто сейчас не является носителем памяти о времени репрессий, будь то личная или коллективная память. В большинстве случаев транслируется то, что сейчас принято называть «пост-память» - то есть не лично пережитое событие и не рассказы очевидцев, а некие тексты, дошедшие до нас уже с определенными умолчаниями и оценками. Некоторые внуки пытаются разобраться в произошедшем и понять его причины. Они приходят 30 октября в День памяти жертв политических репрессий СССР на «Молитву памяти», или «Возвращение имен», которая проводится в этот день во многих городах России, чтобы отдать дань уважении и почтения своим предкам.
* Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-09-00392 «Население Кольского полуострова между двумя мировыми войнами: миграции, мобильность, идентичность».
Уп ад ы ш е в Н . В . ГУЛАГ на Архангельском Севере: 1919–1953 гг. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2004. 211 с. Уп ад ы ш е в Н . В . ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция, распад. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2007. 324 с.
Уп ад ы ш е в Н . В . О современных подходах к изучению истории ГУЛАГА // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 170–172.
Уп ад ы ш е в Н . В . Польские спецпереселенцы на Европейском Севере России // Отечественная история. 2007. № 5. С. 154–161.
Хатанзейская Е . В . Архангельск в системе спецколонизации Северного края в 1929-1936 гг. // Новейшая история России. 2016. № 3. С. 93–104.
Чистов К . В . Устная речь и проблемы фольклора // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М.: Наука, 1988. С. 326–340.
“WE WERE CARRIED IN THE CATTLE-BOXES FOR A MONTH”: MEMORIES OF THE SPECIAL SETTLERS’ DESCENDANTS IN THE NARRATIVE TRADITION OF ARKHANGELSK CITIZENS*
* The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research grant “The population of the Kola Peninsula between two world wars: migration, mobility, identity” (project No 18-09-00392).
P. 137–156. (In Russ.)
(In Russ.)
Список литературы "Нас везли целый месяц в телячьих вагонах": воспоминания потомков спецпереселенцев в повествовательной традиции архангелогородцев
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров//Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-290.
- Бердинских В. Н. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской России. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 768 с.
- Васев В. Н. Двинская земля: шаги времени. Вологда, 2011. 496 с.
- Дианова Т. Б. Гипертекстовые единства в живой фольклорной традиции//Актуальные проблемы полевой фольклористики/Под. ред. А. А. Ивановой. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 68-74.
- Змеева О. В., Разумова И. А. Спецпереселенцы Хибиногорска: динамика идентичностей//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 7 (168). С. 7-14.
- Игнатова Н. М. Использование труда спецпереселенцев -«бывших кулаков» в лесозаготовительной промышленности Северного края в 1930-е гг.//Известия Коми научного центра УРО РАН. 2015. Вып. 4 (24). С. 93-99.
- Игнатова Н. М. «Перевоспитать в наикратчайший срок»: школы, клубы и библиотеки в спецпоселках Коми автономной области в 1930-е годы//Известия Коми научного центра УРО РАН. 2017. Вып. 4 (32). С. 109-115.
- Коротаев В. И. На пороге демографической катастрофы: принудительная колонизация и демографический кризис в Северном крае в 30-е годы ХХ века. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2004. 136 с.
- Коротаев В. И. Русский Север в конце XIX -первой трети XX века. Проблемы модернизации и социальной экологии. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 1998. 189 с.
- Куратов А. А. Северный край//Поморская энциклопедия: В 5 т. Т. 1: История Архангельского Севера/Гл. ред. В. Н. Булатов; Сост. А. А. Куратов. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2001. С. 361.
- Лобченко Л. Н. Из истории спецпоселков в Северном крае//Вестник архивиста. 2006. № 4-5. С. 137-156.
- Мелехов В. А. Трудный маршрут//Север. Мезень. 2013. 25 сент. С. 6; 2013. 1 нояб. С. 8.
- Митин В. А. Кулойский ИТЛ НКВД (1937-1960)//Поморский летописец. Архангельск, 2002. Вып. 1. С. 165-185.
- Неклюдов С. Ю. Стереотипы действительности и повествовательные клише//Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии: Тез. конф. М.: Ин-т славяноведения и балканистики, 1995. С. 77-80.
- «Обо всем, что совершалось тут»: Воспоминания, материалы о репрессированных жителях Судостроя-Молотовска и о репрессированных родственниках жителей Архангельска и Северодвинска/Сост. Г. В. Шаверина. Архангельск, 2017. 240 с.
- Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930-1940 гг.: В 2 кн. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2005. 912 с.
- Разумова И. А. Время в семейном историческом нарративе . Режим доступа: http://www. ruthenia.ru/folklore/razumova6.htm (дата обращения 10.07.2018).
- Разумова И. А. Семейный фактор интеграции исторической общности спецпереселенцев//Труды Кольского научного центра РАН. 2018. № 7. С. 14-28.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы: В 5 т. Т. 2: Ноябрь 1929 -декабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. С. 85-86.
- Угрюмова Ю. О. Спецпереселенцы Ленского района в 1930-1940 годах в воспоминаниях очевидцев . Режим доступа: http://www.yarensk.narod.ru/diplom/pSrc.html (дата обращения 10.09.2018).
- Упадышев Н. В. ГУЛАГ на Архангельском Севере: 1919-1953 гг. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2004. 211 с.
- Упадышев Н. В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция, распад. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2007. 324 с.
- Упадышев Н. В. Гулаг на Европейском Севере России: генезис, функционирование, распад: 1929-1960 гг.: Дис. д-ра ист. наук. Архангельск, 2009.
- Упадышев Н. В. Заключенные исправительно-трудовых лагерей в Архангельской области в 1937-1953 гг.: численность и динамика. Архангельск: Солти, 2001. 38 с.
- Упадышев Н. В. Об использовании принудительного труда лагерных заключенных в развитии транспортной инфраструктуры на востоке Европейского Севера России в 1930-1940-е годы//Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России. Вып. 4. Материалы межрегион. научно-практ. конф. (г. Котлас, 26-27 марта 2010)/Отв. ред. С. А. Гладких. Котлас, 2010. С. 117-125.
- Упадышев Н. В. О современных подходах к изучению истории ГУЛАГА//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 170-172.
- Упадышев Н. В. Польские спецпереселенцы на Европейском Севере России//Отечественная история. 2007. № 5. С. 154-161.
- Упадышев Н. В. Спецпоселенцы в Северном крае: концептуальное видение проблемы//Вестник Поморского университета. 2005. № 2(8). С. 24-25.
- Харитонова Я. Э. Личные воспоминания о жизни на острове Жижгин . Режим доступа: http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/lichnye-vospominaniya-o-zhizni-na-ostrove-zhizhgin/(дата обращения 10.09.2018).
- Харитонова Я. Э. Парк продолжает заполнять страницы истории «Онежского Поморья» . Режим доступа: http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/park-prodolzhaet-zapolnyat-stranitsy-istorii-onezhskogo-pomorya/(дата обращения 10.09.2018).
- Хатанзейская Е. В. Архангельск в системе спецколонизации Северного края в 1929-1936 гг.//Новейшая история России. 2016. № 3. С. 93-104.
- Чистов К. В. Устная речь и проблемы фольклора//История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М.: Наука, 1988. С. 326-340.
- Шашков В. Я. К вопросу о выселении спецпереселенцев в Северный край//Отечественная история. 1996. № 1. С. 150-155.
- Шашков В. Я. «Ликвидированный класс» на защите Родины//Военно-исторический журнал. 2001. № 4. С. 42-47.
- Шашков В. Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев 1930-1954 гг. Мурманск: Изд-во МГПИ, 1996. 279 с.
- Шашков В. Я. Репрессии в СССР против крестьян и судьбы спецпереселенцев Карело-Мурманского края. Мурманск: Изд-во МГПИ, 2000. 343 с.
- Шашков В. Я. Спецпереселенцы на Мурмане. Роль спецпереселенцев в развитии производительных сил на Кольском полуострове (1930-1936 гг.). Мурманск: Изд-во МГПИ, 1993. 142 с.
- Against their Will: the History and Geography of Forced Migrations in the USSR. Budapest; New York, 2004. 425 p.
- Lynne V. Counternarratives of Soviet Life: Kulak Special Settlers in the First Person//Writing the Stalin Era. Sheila Fitzpatrick and Soviet Historiography. New York, 2011. P. 87-99.
- Lynne V. The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements. Oxford University Press, 2007. 278 p.
- Memories of the Dispossessed: Descendants of Kulak Families Tell Their Stories. (O. Litvinenko, J. Riordan, Eds.). Nottingham, UK: Bramcote Press, 1998. 110 p.
- Siegelbaum L. H., Moch L. P. Broad Is My Native Land: Repertoires and Regimes of Migration in Russia's Twentieth Century. Cornell University Press, 2015. 440 p.
- Sheila Fitzpatrick. Tear Off the Masks! Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. 352 p.
- Snyder T., Brandon R. Stalin and Europe: Imitation and Domination, 1928-1953. Oxford University Press, 2014. 352 p.