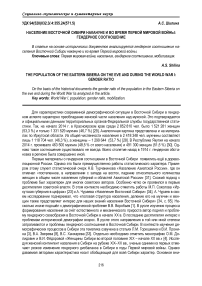Население Восточной Сибири накануне и во время Первой мировой войны: гендерное соотношение
Автор: Шилина А.С.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе исторических документов анализируется гендерное соотношение населения Восточной Сибири накануне и во время Первой мировой войны.
Первая мировая война, население, гендерное соотношение, мобилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14084183
IDR: 14084183 | УДК: 94(520)032.3/.4:355.24(571.5)
Текст научной статьи Население Восточной Сибири накануне и во время Первой мировой войны: гендерное соотношение
Для характеристики современной демографической ситуации в Восточной Сибири в гендерном аспекте характерно преобладание женской части населения над мужской. Это подтверждается и официальными данными территориальных органов Федеральной службы государственной статистики. Так, на начало 2014 г. в Красноярском крае среди 2 852 810 чел. было 1 521 281 женщин (53,3 %) и только 1 331 529 мужчин (46,7 %) [29]. Аналогичная картина представлена и на материалах по Иркутской области. Из общей численности населения в 2 418 348 чел. мужчины составляют лишь 1 118 704 чел. (46,3 %), а женщины – 1 299 644 (53,7 %) [28]. В Республике Якутия на начало 2014 г. проживало 463 500 мужчин (48,5 % от всего населения) и 491 300 женщин (51,5 %) [30]. Однако такое соотношение существовало не всегда. Всего столетие назад в 1914 г. гендерная обстановка в регионе была совершенно иной.
Первые материалы о гендерном соотношении в Восточной Сибири появились ещё в дореволюционной России. Однако это были преимущественно работы статистического характера. Примером этому служит статистический очерк Н.В. Турчанинова «Население Азиатской России», где он отмечал «постепенное, в направлении с запада на восток, падение относительного количества женщин в общем числе населения губерний и областей Азиатской России» [31]. Схожий подход к проблеме был характерен для многих советских авторов. Особенно четко он проявился в первые десятилетия советской власти. В этом контексте необходимо отметить работы М.П. Соколова «Иркутская губерния в цифрах» [23] и А. Чураева «Население Восточной Сибири» [34]. А. Чураев в своем исследовании подчеркивал, что «половая структура населения, деление его на мужчин и женщин также представляет интерес для наших знаний населения Восточной Сибири» [34, c. 65]. Несколько иначе подошёл к демографической проблеме В.В. Воробьев [1]. В русле изучения процесса формирования населения за счёт естественного и механического прироста автор поднял и проблему гендерного своеобразия в Восточной Сибири в начале XX в. В последние десятилетия интерес к проблемам исторической демографии возрос. В русле этого направления в той или иной степени затрагиваются и проблемы гендерного соотношения в Восточной Сибири. В контексте изучения демографических процессов в Сибири эта тематика озвучена в статьях Л.М. Горюшкина и В.И. Пронина [3], В.А. Зверева [8], В.С. Ханхарева [33]. Отдельно необходимо отметить монографию О.М. До-лидович и В.И. Фёдоровой «Женщины Сибири во второй половине XIX – начале XX вв.» [4]. Исследуя женский контингент населения в Сибири на рубеже XIX–XX вв., ученые одними из первых отмечают резкое изменение гендерного дисбаланса в Сибири в годы Первой мировой войны. Однако даваемая авторами характеристика носит обобщающий для всей Сибири характер. Основное вни- мание концентрируется на социальном, бытовом и профессиональном статусе сибирских женщин. Тем не менее на настоящий момент в современной исторической науке не появилось исследования о проблеме изменения соотношения численности женщин и мужчин в Восточной Сибири в период Первой мировой войны. В связи с этим целью данной работы является анализ эволюции гендерного соотношения в Восточной Сибири накануне и в годы войны. К числу задач относятся изучение удельного веса женщин и мужчин в общей численности населения региона накануне и в годы войны, раскрытие основных тенденций в сфере гендерных изменений и изучение причин данных процессов.
В данной работе при изучении статистических материалов применялся статистический метод. Выявление общих и особенных черт в соотношении женщин и мужчин в регионе позволило провести сравнительный подход. Раскрытие основных тенденций гендерной ситуации в довоенный и военный периоды проводилось с помощью метода системного анализа.
В административно-территориальном отношении Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было образовано ещё в 1822 г. по «Учреждению для управления сибирских губерний» М.М. Сперанского в составе Енисейской и Иркутской губерний и Якутской области [19, c. 345]. 2 июня 1887 г. вступило в силу Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О преобразовании Главного управления Восточной Сибирью». Согласно этому узаконению, вместо Восточно-Сибирского генерал-губернаторства учреждалось Иркутское генерал-губернаторство в составе Енисейской и Иркутской губерний, а также Якутской области [20, c. 266]. Такое деление Сибири подтверждает в своем «Географическом очерке Сибири» и В. Сапожников. В этой работе автор, характеризуя Восточную Сибирь, указывает, что «она состоит из двух губерний – Енисейской и Иркутской и Якутской области» и соседствует с Западной Сибирью и Амурско-Приморской окраиной [21, c. 11]. На момент Первой мировой войны именно Иркутское генерал-губернаторство занимало ту территорию Российской империи, которую официально относили к Восточной Сибири.
Первые данные о гендерном соотношении в странев целом и в отдельных регионах, в частности, дают материалы первой Всероссийской переписи населения 1897 г. Она зафиксировала в пределах Российской империи 125 640 021 чел. наличного населения (и ещё 40 661 чел. русских подданных на военных судах, в Бухаре, Хиве и Великом княжестве Финляндском). Из этого числа лиц при общем подсчете 62 512 698 чел. (49,74 %) составляли мужчины и 63 167 984 чел. – женщины (50,26 %) [14, c. 3]. Хотя в процентном плане соотношение численности обоих полов мало отличалось, в реальности разница была более ощутима: женщин по всей Российской империи было на 655 286 чел. больше, чем мужчин. Наибольший перевес женского населения над мужским ощущался в самой густонаселенной части империи – Европейской России, где на 45 749 575 мужчин приходилось 47 693 289 женщин [14, c. 2].
Иным было соотношение в окраинных областях страны, в том числе и в Восточной Сибири. Всего в регионе проживало 1 354 308 жителей. Из них женщин было 641 664 чел., а мужчин – 712 644 чел. [14, c. 3]. В среднем в пределах Восточной Сибири на каждую 1000 мужчин приходилось всего 900 женщин. В отдельных областях Восточной Сибири эти цифры несколько варьировались, но в целом также преобладали мужчины. В Иркутской губернии на 1000 мужчин приходилось в среднем 876 женщин [16, c. 7]. Такая же картина наблюдалась и в Енисейской губернии, где на 1000 мужчин приходилось 907 женщин [15, c. 4]. В Якутской же области на момент переписи на 1000 мужчин приходилось всего 933 женщины [17, c. 6].
Такой гендерный дисбаланс в пользу женщин сохранялся в регионе вплоть до Первой мировой войны. Ни Русско-японская война 1904–1905 гг., ни Первая русская революция не оказали кардинальных перемен в гендерной ситуации в Восточной Сибири. Это подтверждают и данные Центрального статистического комитета МВД. Согласно этим материалам, к началу 1905 г. в регионе проживало 768 700 мужчин и 720 300 женщин [5, с. 62–63]. В 1907 г. в обеих губерниях и области находилось 793 100 мужчин против 747 500 женщин [6, с. 51–52]. В дальнейшем разница между числом лиц разных полов в пользу мужской части населения продолжала сохраняться. К началу 1910 г. в Восточной Сибири было 948 000 мужчин и 901 600 женщин [7, с. 56–57], к 1912 г. 1 029 600 мужчин и 981 700 жен- щин [24, с. 53–55]. Наконец, накануне Первой мировой войны в 1914 г. здесь проживало 1 059 700 мужчин и 1 010 900 женщин [25, с. 54–55]. В целом же при общем сохранении превосходства удельного веса мужчин эта разница за первое десятилетие XX в. несколько сгладилась. И, по подсчетам А. Чураева, в 1912 г. на 1000 мужчин приходилось уже 932 женщины [34, с. 65].
Такой гендерный дисбаланс был связан с целым рядом причин, тесно связанных с особенностями колонизации Сибири. В первую очередь необходимо отметить, что заселение региона ещё до начала XX в. велось несколькими способами. Первоначально гарнизон первых русских острогов состоял из направленных на государеву службу из Москвы служилых людей: казаков и частично стрельцов. Как правило, в Сибирь направляли людей молодых и холостых. По мнению О.М. Долидович и В.И. Фёдоровой, свою службу они рассматривали как явление временное и не спешили обзаводиться семьями на новом месте [4, с. 27].
Ещё одним из способов заселения региона была отправка сюда на каторгу и ссылку различных преступников: участников бунтов и восстаний, узников совести, членов противоправительственных кружков. Естественно, что, как правило, преобладающее большинство из них составляли мужчины. Так, например, в 1914 г. в Иркутской губернии из 64 837 ссыльно-поселенцев мужчины составляли 94 % (60 983 чел.) [12, с. 62]. В Енисейской губернии из 8 124 ссыльных 92 % (7 480 чел.) составляли также мужчины [26] .
В начале XX в. мощным источником для пополнения местного населения стало вольное переселение, получившее по аграрной реформе П.А. Столыпина государственную поддержку. Но и в этом случае инициатором и организатором переселения выступали именно мужчины, так как на них оформлялся соответствующий участок земли. Более того, переезд и обустройство требовали применения большой физической силы. Поэтому, по мнению В.А. Зверева, за Урал охотнее ехали и устраивались семьи с большим количеством работников-мужчин, что ещё больше поддерживало сохранение перевеса в пользу мужчин [8, с. 61].
Необходимо также отметить, что значительную часть населения в Восточной Сибири составляли инородцы, находившиеся на особом положении. Все они были освобождены от несения воинской повинности, что исключало их из участия в большинстве войн, ведшихся Российской империей. Значительную часть населения мужчины составляли в Иркутской губернии и особенно в Якутской области. В Иркутской губернии инородческое население составляло около 20 % всего населения, в Якутской области – 93 % [31, с. 82–85]. Значительная доля инородческого элемента в населении ставила Якутскую область на особое положение, поскольку местное население не подпадало под мобилизацию. Также необходимо подчеркнуть, что для коренного населения Сибири было в целом характерно преобладание мужчин над женщинами. Одной из причин такого низкого удельного веса женщин среди бурят Иркутской губернии и М.П. Соколов, и В.С. Ханхараев видели в высокой материнской смертности [23, с. 27, 33, 94]. Это в первую очередь связывалось с проблемами оказания акушерской помощи.
В этом отношении необходимо отметить, что и в целом в Восточной Сибири ситуация с медицинским обслуживанием была очень тяжелой. Не хватало не только квалифицированных врачей, но и простых фельдшеров, особенно в сельской местности. Так, в 1914 г. в Иркутской губернии практиковал 91 врач из числа гражданских. Из их числа больше половины (56 чел.) проживало в губернском центре – Иркутске. В уездах практиковало всего 45 врачей, в том числе 21 сельский врач. Фельдшеров и фельдшериц тоже было недостаточно на такую обширную область – 173 чел., не считая 37 чел. в Иркутске. Повивальных бабок на всю губернию приходилось всего 42 чел. [12, с. 40]. Не лучше ситуация была и в Енисейской губернии. На обширной территории Приенисейского края в 1914 г. проживало всего 123 чел. из числа медицинских работников, в том числе и по военной службе. Из них 62 % (76 чел.) практиковало в городах. В уездах имелось лишь 47 квалифицированных врачей, из них только 29 являлись сельскими участковыми. Причем на обширный Туруханский край приходился всего 1 профессиональный медик. Фельдшеров и фельдшериц было всего 303 чел., 207 из них – в уездах. Акушерок вообще не хватало, на всю губернию их было толь- ко 10 [24, с. 55]. Естественно, что при таком состоянии сети медицинского обслуживания в регионе высокой была материнская смертность.
Кроме того, на превалирование мужской части населения в Восточной Сибири оказали своё воздействие и особенности промышленного развития региона. Здесь преимущественно были распространены отрасли добывающей промышленности. Угле- и золотодобыча – основные сферы промышленного производства – требовали в те времена применения тяжелого физического труда. Темпы технического перевооружения были очень низкими. Лишь на приисках Енисейского округа стали активно внедряться простейшие механизмы. В частности, к 1915 г. здесь находилось 26 из всех 69 российских драг [11, с. 31]. Частично использовались механизмы при откачке воды из шахт и перевозке пустой породы. В Ленском и Ангарском округах ситуация была хуже. В Ангарском округе добыча золота «производилась исключительно мускульным трудом и главнейше золотничными работами». Первая драга на золотых приисках Ленского округа появилась лишь в 1913 г., она была плохого качества и часто ломалась [2, л. 98–99]. Ради увеличения производства местные предприниматели предпочитали привлекать массовый труд золотничников вместо капиталоёмкой модернизации. Естественно, что привлекались на работы именно мужчины, как более выносливые и сильные работники.
Такой же была ситуация и в угольной промышленности. Основным районом добычи ископаемого угля являлись Черемховские копи Иркутской губернии, где добывалось 45 % всего угля Восточной Сибири, включая Дальний Восток [13, с. 270]. В техническом отношении производство на них было крайне отсталым, уступавшим в энерговооруженности Анжеро-Судженским копям. Разработка месторождений производилась обрушением кровли и частично открытыми работами. Основными орудиями добычи продолжали оставаться кайло, клинья, порох и динамит [2, л. 140]. К тому же Устав о промышленности запрещал проводить ночные работы при участии работниц женского пола [32, с. 1207]. Нанимать женщин-работниц в таких условиях было крайне невыгодно. В связи с этим их в промышленных районах (на копях, рудниках и шахтах) почти не было. О влиянии особенностей промышленного освоения Восточной Сибири на половой состав населения говорят и данные В.В. Воробьева о половозрастной пирамиде. Почти половину мужчин в регионе (в Енисейской губернии – 48,1 %, в Иркутской – 51 %, в Якутской области – 49,7 %) составляли мужчины трудоспособного возраста (20–59 лет) [1, с. 163].
Железнодорожное строительство и обслуживание магистрали также требовало привлечение большого числа именно мужчин. В связи с этим именно в городах, расположенных вдоль железной дороги, пропорции между полами были более ярко выражены. Особенно это характерно было для городов Енисейской губернии, где к концу 1914 г. проживало 84 229 мужчин и всего 69 193 женщины [26, с. 30]. Среди городского населения Иркутской губернии также преобладали мужчины. Их на начало 1914 г., по данным полиции, было 62 101 чел., а женщин – 59 743 чел [12, с. 34]. Кроме того, в городах концентрировалось значительное число приезжих чиновников и военнослужащих, большинство из которых также составляли мужчины [4, с. 27].
Данные о рождаемости показывали, что в регионе больше всего новорожденных было именно мужского пола. В Енисейской губернии в 1914 г. среди младенцев как в городах, так и в уездах, на 31 301 мальчиков приходилось всего 29 440 девочек [26, с. 32]. В Иркутской губернии в 1913 г. родился 18 381 мальчик и 17 050 девочек [12, с. 33]. Это также оказывало свое влияние на гендерную ситуацию.
Однако начавшаяся Первая мировая война, безусловно, внесла сильные коррективы в гендерную ситуацию в Восточной Сибири. По подсчетам сельскохозяйственной переписи 1916 г., в Енисейской и Иркутской губернии уже в 1916 г. проживало 642 187 мужчин и 730 595 женщин [27, с. 206–207] наличного населения (то есть без учета мобилизованных). Такое изменение гендерного перевеса объясняется в первую очередь уходом на фронт значительного числа трудоспособных мужчин. Уже 16 июля 1914 г. Высочайшим указом предписывалось провести мобилизационные мероприятия в губерниях и областях Европейской России. А через 2 дня, 18 июля, в дополнение к этому же Высочайшему указу Правительствующему Сенату предписывалось призвать на военную службу «нижних чинов запаса армии во всех губерниях, областях и уездах Азиатской России». Одновременно с этим срочному призыву подлежали казаки (в том числе и Енисейской, и Иркутской казачьих сотен), ополченцы, врачи, ветеринары, фармацевты. 21 июля призыв распространился и на ратников ополчения 1-го разряда всех областей и губерний империи, за исключением Дальнего Востока, Степного края и некоторых уездов Европейской России [10].
По железной дороге с востока на запад потянулись людские эшелоны. Призванные сибиряки, в том числе и из Иркутской и Енисейской губерний, пополняли собою полки и подразделения в действующей армии. В связи с затянувшимся характером военных действий в империи регулярно объявлялись призывы трудоспособных мужчин разных годов рождения. Естественно, что массовый исход мужчин на фронт привел к целому ряду прямых и косвенных явлений в структуре общества. Многие призванные оставались до последних дней войны на линии фронта, другие погибали на поле брани, третьи пропадали без вести или оказывались в плену. Точная численность безвозвратно потерянного на войне населения Восточной Сибири не подлежит установлению. Тем не менее регулярные призывы в армию привели к существенному сокращению численности мужского населения в регионе во время войны.
К 1917 г. Восточная Сибирь пережила целый ряд мобилизаций, начиная с 22 июля 1914. По подсчетам советских статистиков, 7 раз были призваны ратники 1-го и 2-го разрядов, в том числе и подлежавшие призыву лишь в последующие годы; 6 раз осуществлялся набор новобранцев: сначала призывников 1914–1916 гг. в годы их призыва, а затем и всех родившихся в 1896–1898 гг., за исключением белобилетников [21, с. 18]. К 1917 г. было призвано в Енисейской губернии – 83 694 чел. (9 % от всего наличного населения в 1917 г.), в Иркутской губернии – 54 483 (9,5 %), включая от казаков (1 393 чел.) и инородцев (593 чел.) [18, с. 65]. Итого из Восточной Сибири (за исключением Якутской области) на фронт отправилось около 135 тыс. чел. из числа запасных и новобранцев.
Хотя преобладание мужчин в некоторых районах Сибири всё ещё имело место быть, разница между численностью мужчин и женщин сократилась до минимума. Более того, с каждым военным годом гендерное превосходство все больше переходило к женщинам. Если в 1914 г. на 891,5 тыс. мужчин в обеих губерниях приходилось 849,2 тыс. женщин [25, c. 54], то сельскохозяйственная перепись 1917 г. показзала следующее соотношение: 642 187 мужчин на 730 595 женщин в обеих губерниях [27, с. 206–207]. Исключение составляли лишь рудники, прииски и шахты, где требовалась мужская сила. В Енисейской губернии за вычетом отсутствовавших (большей частью призванных) проживало 394 303 душ мужского пола против 453 245 женского. То же было и в Иркутской губернии: 184 136 мужчин и 220 306 женщин (кроме того, среди казачества: 5 188 мужчин и 6 136 женщин). Исключение в этом плане в губернии составляли только инородцы: мужчин – 53 189 чел., женщин – 46 481 чел. Благодаря высокой доле инородческого населения, освобожденного от воинской повинности, в Якутской области также сохранялось незначительное преобладание мужского населения: 116 953 душ мужского пола (не считая 900 чел. призванных) против 107 109 душ женского пола [18, с. 64–65].
Следует обратить внимание на то, что с началом войны за Урал хлынул массовый поток беженцев из европейских губерний. По данным Всероссийского земского комитета, в 1916 г. в Иркутской и Енисейской губерниях насчитывалось свыше 20 тыс. беженцев, большинство которых относились к категории нетрудоспособного или малотрудоспособного населения [9, с. 152]. В тыл отправлялись те, кто не подлежал призыву: дети, старики, раненые, инвалиды и, конечно, женщины. Однако, по мнению Л.М. Горюшкина и В.И. Пронина, доля беженцев в общей численности населения была невелика и постоянно менялась. Если в первые военные годы за Урал, по подсчетам исследователей, перебралось около 200 тыс. чел., то к февралю 1917 г. их в Сибири оставалось всего 85,5 тыс. чел. [3, с. 88–86]. Тем не менее даже, несмотря на свой относительно небольшой удельный вес, беженцы вносили свой вклад в гендерную ситуацию в Восточной Сибири.
Таким образом, накануне Первой мировой войны в гендерном соотношении в населении Восточной Сибири преобладали мужчины. Связано это было в первую очередь с особенностями хо- зяйственного освоения региона, преобладанием добывающей отрасли промышленности в экономике. Кроме того, в Восточной Сибири значительной была доля инородческого населения, для которого традиционно было характерно преобладание удельного веса мужчин. Свой вклад в гендерный дисбаланс вносила и ссылка. Среди ссылаемых также численно преобладали преступники мужского пола. С началом Перовой мировой войны гендерная ситуация в регионе начинает меняться. На фронт ежегодно мобилизовалось значительное число трудоспособных мужчин. В тылу оставались женщины, дети, старики и белобилетники. С каждым последующим призывом удельный вес мужчин в Восточной Сибири, естественно, падал, а женщин, наоборот, возрастал. Дальнейшему увеличению численности женщин в определенной степени способствовал и приток в регион беженцев, среди которых также преобладали не подлежащие призыву женщины, дети, старики и инвалиды. Всё это привело сначала к уравновешиванию численности обоих полов в Восточной Сибири, а затем и к возникновению нового гендерного дисбаланса, но уже в пользу женской части населения.