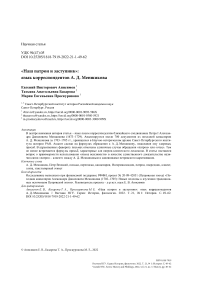"Наш патрон и заступник": язык корреспондентов А. Д. Меншикова
Автор: Анисимов Евгений Викторович, Базарова Татьяна Анатольевна, Проскурякова Мария Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания авторов статьи - язык писем корреспондентов ближайшего сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова (1673-1729). Анализируется около 700 документов из походной канцелярии А. Д. Меншикова за 1703-1705 гг., хранящихся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Акцент сделан на формулах обращения к А. Д. Меншикову, пожелания ему здоровья, просьб. В адресованных фавориту письмах отмечены единичные случаи обращения «патрон» или «отец». Тем не менее встречаются формулы просьб, характерные для патрон-клиентского лексикона. В статье поставлен вопрос о правомерности использования «языка вежливости» в качестве единственного доказательства наличия связи «патрон - клиент» между А. Д. Меншиковым и сановниками петровского царствования.
А. д. меншиков, петр великий, письма, переписка, канцелярия, ингерманландия, патрон, посредник, клиент, элита, эпистолярный этикет
Короткий адрес: https://sciup.org/147236265
IDR: 147236265 | УДК: 94(47).05 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-1-49-62
Текст научной статьи "Наш патрон и заступник": язык корреспондентов А. Д. Меншикова
Acknowledgements
The study was carried out with financial support of RFFR, project no. 20-09042501 (Petrine era) “Field Chancellery of Alexander Menshikov (1702–1705): New approaches to the traditional sources of a Petrine era”. Project supervisor – Dr. of Sci. (Hist.) E. V. Anisimov
Anisimov E. V., Bazarova T. A., Proskuryakova M. E. “Our Patron and Protector”: The Language of Correspondents of A. D. Menshikov. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 1: History, pp. 49–62. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-49-62
Преобразования Петровской эпохи выдвинули на политическую арену немало выдающихся личностей из разных слоев общества. Самый стремительный взлет к вершине власти совершил фаворит Петра I Александр Данилович Меншиков (1673–1729). Его многолетняя государственная, военная и административная деятельность нашла отражение в материалах походной канцелярии. Ее основу составляет входящая корреспонденция – письма и донесения, а также указы, армейские табели и ведомости, списки и табели раненых, пленных и солдат. Еще при жизни фаворита его бумаги были разделены на две части, которые в настоящее время хранятся в АрСПбИИ РАН (ф. 83 «Походная канцелярия А. Д. Меншикова») и РГАДА (ф. 198 «Походная и домовая канцелярия А. Д. Меншикова»).
В современной историографии можно выделить два подхода к работе с «лингвистическим миром» эпистолярных памятников. Сторонники первого подхода используют инструментарий теории патроната-клиентелы. Опираясь на тезис о существовании «языка патроната», представители этого направления трактуют слова о взаимной лояльности и привязанности участников переписки как доказательство наличия между влиятельным лицом и его корреспондентом связи «патрон – клиент» [Пек, 2016; Тыгельский, 2016; Kettering, 2002а; 2002б]. Теоретикам и практикам концепции патроната-клиентелы противостоят исследователи, которые предлагают иное понимание языка писем, адресованных высшим сановникам. Иссле- дователи, не объединенные общей теоретической платформой, указывают на многообразие форм межличностного общения в эпоху Средневековья и Нового времени и предостерегают от стандартизации при объяснении отношений [Патронат и клиентела в истории России…, 2004, с. 263–265, 281–284; Полонский, 2011; 2012; Седов, 2005].
В политической науке патрон-клиентские отношения оказались в фокусе внимания американских и европейских исследователей в середине XX в. На основании изучения локальных сообществ ученые создали яркие описания связи «патрон – клиент» у представителей различных цивилизаций и культур, предложили терминологию для наименования участников отношений и уникальные объяснения природы покровительства, а также концептуальные работы о патронате (подробнее см.: [Афанасьев, 2000; Гилев, 2016; Эйзенштадт, Рони-гер, 2016; Hall, 1977; Scott, 1977]).
Американские исследователи Ш. Н. Эйзенштадт и Л. Ронигер показали, что важнейшей характеристикой патроната является обязательный взаимный обмен ресурсами между патроном и клиентом. В этих отношениях одна сторона – патрон – отдает политические (поддержку и защиту) и экономические ресурсы, а другая – клиент – обещания солидарности и лояльности. Связь между участниками основывается на неформальных, но крепких договоренностях, которые могут нарушать и государственное законодательство. Одним из признаков наличия отношений является неравенство в социальной иерархии патрона и клиента и ограниченные возможности клиента в доступе к ресурсам [Эйзенштадт, Ронигер, 2016, с. 376–378].
Разделяя концепцию Ш. Н. Эйзенштадта и Л. Ронигера, историки Л. Л. Пек и Ш. Кеттеринг исследовали культуру патроната и частные отношения английской [Пек, 2016] и французской [Kettering, 2002а; 2002б] знати в XVI–XVII вв. Ш. Кеттеринг фиксировала факт существования патрон-клиентских отношений в том случае, если встречала в источниках обращение с просьбой о покровительстве и благодарность за оказанную помощь, а также прямое подтверждение наличия связи «патрон – клиент» от участников отношений или сторонних наблюдателей [Kettering, 2002б, р. 851]. Однако историк учитывала и те случаи, когда находила в документах, прежде всего в переписке, то, что она именует «языком патроната». Это языковые формулы, содержащие ритуальные заверения клиента в преданности патрону и глубоком уважении, почитании его заслуг и желании ревностно и верно служить, а также заявления патрона о благодарности клиенту за лояльность и готовности воздать ему должное, защитив или наградив [Kettering, 2002а, рр. 131–134]. Систематизировав данные о дарении подарков в Англии и Франции, Л. Л. Пек и Ш. Кеттеринг выяснили, что клиенты всегда сопровождали подношения словами о добровольности, спонтанности и бескорыстности дара. По мнению исследователей, слова вежливости скрывали истинную природу дара – стремление создать или усилить личную связь с патроном и получить выгоду [Пек, 2016, с. 152; Kettering, 2002а, р. 131].
С 2000-х гг. теорию патроната-клиентелы для изучения российского общества XVI – начала XX в. стали активно использовать и отечественные ученые [Бекасова, 2006; Копелев, 2000; 2001; 2002; Курукин, 2013; Лавринович, 2016; Накишова, 2020; Павлов, 2019, с. 84–91; Редин, 2020; Krom, 2008; Lavrinovich, 2018]. Однако исследователи, занимающиеся общественно-политическими проблемами Средневековья и раннего Нового времени, как правило, очень осторожны в применении патрон-клиентской терминологии. Так, по мнению П. В. Седова, российское общество было пронизано разными формами связей и зависимостей (родственных, соседских, служебных, церковных) [2005, с. 190, 198]. Поэтому употребление терминов «патрон» и «клиент», не известных в России до XVIII в., мало что проясняет [Патронат и клиентела в истории России…, 2004, с. 264, 284]. Изучение неформальных связей в России Средневековья и раннего Нового времени затрудняет и ограниченная источни-ковая база: до нашего времени сохранилось крайне мало дневниковых записей и личных (или частно-деловых) писем. Для исследований о патронате значимым является анализ действий обеих сторон, а также действий патрона в ответ на обращения клиента. Однако нередко в распоряжении историков имеются только обращения одной стороны, в то время как ответы не сохранились. Актуальным остается и вопрос о правомерности использования «языка патроната» в качестве единственного доказательства наличия одноименных отношений.
Отечественные исследователи, работавшие с перепиской современников Петра I, затрагивали проблему эпистолярного этикета, языка корреспондентов А. Д. Меншикова. В 1920– 1930-е гг. А. И. Заозерский в результате анализа переписки двух генерал-фельдмаршалов – А. Д. Меншикова и Б. П. Шереметева – пришел к выводу о «своеобразной фикции братства», которая стояла за «житейскими расчетами обеих сторон». А. Д. Меншиков для представителей петровской элиты – «брат, патрон, благодетель, хотя для большинства, если не для всех, только на бумаге» [Заозерский, 1973, с. 184–189; 1989, с. 219–223].
Эту точку зрения разделил Д. Г. Полонский, показавший, что «патрон», «благодетель» или «отец» – заурядное (возможно, шаблонное) словоупотребление. По мнению исследователя, именование «братом» могло быть «этикетным маркером особой доверительности между корреспондентами», и претендовать на подобный характер отношений могли далеко не все представители русской политической элиты. Тем не менее, использованные при обращении формулировки свидетельствуют об изменении статуса А. Д. Меншикова и его отношений с другими лицами [Полонский, 2011; 2012, с. 99–100].
Предпринимались попытки проанализировать корреспонденцию А. Д. Меншикова с использованием инструментария теории патроната-клиентелы. Д. А. Редин реконструировал биографию К. А. Нарышкина и на основании писем 1716–1723 гг. констатировал его принадлежность к клиентеле А. Д. Меншикова [Редин, 2020]. Исследование взаимоотношений А. Д. Меншикова и петербургского генерал-полициймейстера А. М. Девиера предприняла М. Г. Накишова [2020]. Основной источниковой базой статьи стали письма генерал-поли-циймейстера за 1718–1727 гг. По мнению автора, А. М. Девиер выполнял посреднические функции, «выступая своеобразным брокером»: передавал сведения от Меншикова-клиента государю или связывал Меншикова-патрона с клиентами.
Отметим, что основой упомянутых выше исследований являлась часть походной канцелярии А. Д. Меншикова, хранящаяся в РГАДА, где отложилась входящая корреспонденция преимущественно 1714–1727 гг. Именно в это время А. Д. Меншиков достиг вершины своего влияния на российскую политику. Равных по могуществу светлейшему князю, его близости к государю в России уже не было.
Не менее важен для изучения развития контактов А. Д. Меншикова анализ «языка писем», адресованных ему сподвижниками Петра I в начале политической и военной карьеры будущего всемогущего фаворита – 1703–1705 гг. 1 В эти годы тематика писем преимущественно связана с действиями русской армии в Ингерманландии в первые годы Северной войны (1700–1721), а также с организацией управления на новых территориях.
Карьера А. Д. Меншикова как военного и государственного деятеля началась во время кампании в Ингерманландии. Проявившего в октябре 1702 г. мужество при взятии шведской крепости Нотебург (Шлиссельбург) поручика А. Д. Меншикова государь назначил шлиссельбургским губернатором. В декабре того же года по царскому указу при новом губернаторе в подмосковном селе Семеновском была создана приказная палата (с 1705 г. – Ингерманландская канцелярия). После закладки 16 мая 1703 г. в дельте Невы небольшой деревоземляной крепости А. Д. Меншиков становится петербургским губернатором. По мере продвижения русской армии к Балтийскому морю под его управление переходили все отвоеванные земли. К началу 1705 г. в ведении губернатора оказались огромные территории, по своей площади сравнимые с европейскими державами. В сферу компетенции А. Д. Меншикова помимо военных вопросов входили логистика, организация снабжения русской армии, строительство и оборона Санкт-Петербурга и всех крепостей Ингерманландии.
Широкая компетенция определяла круг корреспондентов губернатора. В их числе были военачальники, командующие армиями, генералы (равные или выше по званию): Б. П. Шереметев, П. М. Апраксин, А. И. Репнин, К. Э. Рённе, А. А. Вейде, Р. В. Брюс, находившиеся в подчинении А. Д. Меншикова офицеры, а также главы и служители московских приказов, воеводы, иноземные купцы. Именно в это время берут начало многие длительные формальные и неформальные контакты А. Д. Меншикова [Базарова, Проскурякова, 2020].
Безусловно, стремительный взлет обусловлен не только личными качествами и организаторскими способностями А. Д. Меншикова – это традиционный путь фаворитов. Именно близость к правителю является тем символическим капиталом, которым фаворит не мог не воспользоваться, чтобы легализовать свое положение как публичного (формального и неформального) деятеля, не говоря уже об обогащении, т. е. о приобретении «ресурсов первого порядка» (должности, награды, пожалования, льготы). Буквально за несколько лет А. Д. Меншиков становится имперским графом, светлейшим князем, кавалером ордена Андрея Первозванного, получает поместья. Но главное – значительно возросли его «ресурсы второго порядка», выражавшиеся в возникновении и расширении огромного влияния, что позволило быстро сложиться вокруг него сети. Адресантами А. Д. Меншикова были фактически все первейшие вельможи – сподвижники Петра I. В силу близости к царю и исключительной важности порученных ему дел Александр Данилович возвысился над ними, имея связи на разных уровнях и находясь в центре этой сети отношений.
Лишь немногие адресанты А. Д. Меншикова называли его «патроном». В Архиве СПбИИ РАН (ф. 83) сохранилось около 700 писем, полученных им в 1703–1705 гг. Корреспонденты при обращении к царскому фавориту использовали традиционные формулы «мой государь», «милостивой мой государь», которые встречались в русской частно-деловой переписке XVII в. Зимой 1705 г. впервые появляются «сиятелнейший князь», «сиятелнейший и благороднейший господин князь».
В 1704 г. «патроном» А. Д. Меншикова назвали авторы только двух писем. В июле 1704 г. купцы Я. Любс и Х. Брандт обратились к нему за заступничеством: «Не поставте нам в вину, что объявляем колико нам в том иныя завидывают и желают, для того нашего разорения, ес-тьли от вашего патронства отлучить» 2. 11 ноября в письме из шведского плена А. А. Вейде назвал А. Д. Меншикова – «мой благонадежен патрон» 3. В 1705 г. Александра Даниловича патроном именовали П. А. Голицын, П. М. Апраксин и мастер К. Е. Хевте.
В 1703–1705 гг. нечасто встречалось и обращение «брат». «Государь мой и любезний брат Александер Данилович» или «государь и любезнейший брат» – такие слова использовал гетман И. С. Мазепа, обращаясь к царскому фавориту. Помимо гетмана «братом» или «братцем» генерал-майора (с 1704 г.) А. Д. Меншикова называли генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев и генерал-лейтенант А. Шонбек. С одной стороны, как отмечал Д. Г. Полонский [2011, с. 77], подобное обращение является маркером доверительности. С другой стороны, оно демонстрирует равный статус корреспондентов. Обращение генерал-фельдмаршал-лей-тенанта барона Б. Г. Огильви «Высокоблагородный господин граф, высокопочтенный господин сын» 4, по-видимому, должно было напомнить А. Д. Меншикову о более высоком воинском звании шотландца.
Гораздо чаще встречаются фразы, которые употреблялись для выражения вежливости и заинтересованности в продолжении контактов. Примечательно наличие в письмах не только традиционной формулы пожелания А. Д. Меншикову здоровья (здравия), но и просьбы чаще о нем писать. Если в деловых письмах чиновников и порученцев среднего и низшего уровней эта эпистолярная формула, как правило, не встречается, то в письмах высших чиновников она не просто присутствует, а представляет собой настойчивую, порой утрирован- ную просьбу-мольбу как можно чаще писать им о своем здоровье, проявление готовности «слышать ежечасно» 5 («на всяк час душевно слышати желаю» 6). Не только просит, но и требует такого известия от А. Д. Меншикова боярин Б. П. Прозоровский: «И прошу впредь твою любовь да благоволиши мене писании твоими посещать чесого всеусердно требую» 7. Многократное повторение этой формулы, по-видимому, выходит за рамки общепринятой эпистолярной вежливости и может являться своеобразным сигналом с требованием поддержания связи и подтверждения благорасположения, «милости и любви» 8. Получение такого сигнала от А. Д. Меншикова вызывает неумеренную горячую благодарность, радость («писаниями своими всегда сотворяешь мя весела»; «…немалою радостию возрадовался, слыша о доброздравии твоем, государя моего, и о милостивом ко мне призрении» 9), расценивается как милость и награда – «жалование» («…за твое, государя моего, жалованье, что изволишь ко мне писать» 10).
Если письмо А. Д. Меншикова являлось знаком подтверждения отношений с его стороны, то, напротив, длительное отсутствие послания с сообщением о здоровье вводило корреспондента «в немалое безупокойство» 11 и даже печаль («…писма от милости твоей, государя моего, ко мне уже давно не бывало. И о сем имею печаль» 12). Он мог заподозрить, что впал в опалу, немилость. Б. А. Голицын в письме от 30 июня 1704 г. вопрошал: «…не естли какая вина пред тобою, не вижу много писма от милости твоей» 13. Угроза пресечения связи обозначалась в переписке термином «забвение»: «…забвена ты меня учинил, не жалуешь, к мне не пишешь к мне о своем здаровье, чево я слышать зело желаю» (Б. П. Шереметев) 14; «…пожалуй, мой государь, не оставь меня забвенно в своем жалованье, прикажи писать о своем здоровье» (А. И. Репнин) 15; «Челом бью, государь, на твоем жалованье, что пишешь ко мне о своем здравии и впредь прошу забвенна не учини» (Ф. Ю. Ромодановский) 16; «…впредь прошу, дабы в милости вашей не забвен был» (К. А. Нарышкин) 17; «…прошу яко отца, не забудь, и паки не забудь» (Б. А. Голицын) 18. Генерал И. И. Чамберс, И. И. Бутурлин и многие выражали готовность о здоровье А. Д. Меншикова «слышать ежечасно» 19, а генерал К. Э. Рённе утверждал, что «…мы вашего здравия николи же забываем и на кождый день про ваше здравие испиваем» 20. Эти преувеличенные уверения, естественно, не понимались буквально, как и частые слова о желании «очи ваши в радости видети» 21.
Конечно, не забота о здоровье А. Д. Меншикова двигала пером его корреспондентов (хотя знать о здоровье фаворита весьма полезно с прагматической точки зрения), а желание поддерживать открытыми каналы связи, удостовериться в сохранении его благорасположения. Эпистолярный штамп «желаю душевно видеть очи твои» 22 тоже несет в себе скрытую смысловую нагрузку. Как известно, связи подвергались атакам недоброжелателей: конкурентов, завистников, соперников в ожесточенной борьбе за власть и блага. Приходилось опасаться сплетников, которые могли «нанести» А. Д. Меншикову клевету на корреспондента. Поэтому вполне искренне желание Б. П. Шереметева «видеть очи» А. Д. Меншикова, ожидая его, «как ангела Божия» 23. При личной встрече оклеветанный мог опровергнуть «нанос» на него, предупредить о возможном повторении попытки поставить под сомнение его верность и тем прервать связь. «Яко слышу, – писал А. Д. Меншикову А. А. Курбатов, – от некоторых тебе привноситца, но истинно и никогда же ничто пред тобою утаю» 24. И затем он указал на автора «наноса».
Для просителя, занятого «исканием» милости могущественного лица («искати со всяким тщанием» 25), характерна поза предельного самоуничижения, бедности и сиротства, что типично для челобитных русского Средневековья и раннего Нового времени. В дискурсе теории патроната-клиентелы поза «убогого», который «нужен и должен» 26, «сироты»-клиента, повторяющего, что у него, кроме патрона, нет покровителя, оценивается как выражение верности: «Ты, мой милостивый отец, в таком моем одиночестве, будь мне помощник и предстатель» (И. И. Бутурлин) 27. Одиночество и полное «отдание себя» А. Д. Меншикову демонстрировал Б. П. Шереметев: «Известно милости вашей – ни от кого помощи не имею. Лехко мне жить при милости вашей, ничево я при милости вашей не знал (т. е. проблем. – Е. А. , Т. Б. , М. П. ), не толко во управлении в самых главных делах – везде ваша милость своею особою, да отвагою. А здесь я ей-ей один» 28. Ему вторит Г. А. Строганов: «А я, окроме Бога и тебя, милостиваго к себе государя, иного помошника не имею» 29.
Изредка использовалось в обращении к А. Д. Меншикову слово «отец» («яко отец», «милостивой отец», «милостивой мой государь батка», «батка мой чадолюбивый», «чадолюбивый отеч») 30, а также прилагательное «отеческий» (с терминами «призрение», «склонность») 31. Так обращались к фавориту стоявшие ниже него в социальной иерархии подполковник Н. Ю. Инфлянт, бригадир Ю. Ф. Щербатов, воевода В. А. Ржевский, комнатный стольник И. И. Бутурлин, М. И. Протопопов, И. Г. Озеров и др. Иерархическая покорность «бедного сироты» служила аргументом для его доступа к ресурсам.
Корреспонденты А. Д. Меншикова нуждались в подтверждении надежности контакта с его стороны («имею надежду на твою, государя, милость безо всякого сумнения»; «на твою милость во всем надежен» 32). Так связь поддерживалась с обеих сторон – из центра и с периферии. При этом сигнал в центр подчинялся ряду неписаных правил. Получив задание или просьбу А. Д. Меншикова об оказании неформальных услуг, надлежало исполнить их с максимальной быстротой и доложить об этом, как это делал Ф. Ю. Ромодановский: «А у меня ни за чем задержания против твоих писем не бывает» 33. Считалось тактичным, подчеркивая могущество и мудрость «батьки», просить у него совета как в делах военных, гражданских, так и личных. Нелишним было, кроме покорного испрошения совета или посылки гостинцев, напомнить безродному выскочке, что он «сиятельство», «экселенц», «изящество» 34, подчеркнуть, что победы генералов учинились «разумом и поиском милости твоей» 35.
Подражая самому А. Д. Меншикову, который сообщал Петру I, что мало пишет, ибо «опасен того, чтоб милости вашей частыми безделными писмами не докучить» (ПиБ, 1900, c. 807), его корреспонденты также были «опасны» «вскучить» царскому фавориту 36. Правда, так думали не все. А. И. Репнин откровенно признается, что будет и дальше докучать посланиями: «…в том на меня не гневайся, я собинной твоей куманды и всегда, по твоей ко мне милости, буду докучником» 37. В словах о «собинной твоей куманды» можно видеть признание существования неформальной структуры, ибо формально генерал А. И. Репнин подчинялся гене-рал-фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. В этике патроната требования А. И. Репнина законны – каналы связи должны работать постоянно, на этом строится суть отношений центра и периферии.
А. Д. Меншиков постоянно получал от тех, кого можно причислить к рядам его клиентов, не только заверения в верности, но и подарки в виде вещей, лакомств и сластей вроде «связок чекулату» 38, а также в виде различных услуг: И. А. Мусин-Пушкин и В. С. Ершов ведали строительством дома А. Д. Меншикова в Москве и наблюдали за покосами в его подмосковных владениях не по служебной обязанности. Судья Преображенского приказа Ф. Ю. Ромодановский беспокоился, чтобы Александр Данилович не страдал от морозов, и подбирал ему шкурки черно-бурых лисиц, Г. И. Волконский занимался устройством южных поместий А. Д. Меншикова, П. А. Голицын заказывал в Вене роскошное платье, а Я. Любс присылал хрусталь и луковицы тюльпанов 39.
Эти деликатесы и ценные (или редкие) вещи были по большей части почестью, т. е. подарками, не связанным конкретно с какими-то действиями А. Д. Меншикова в пользу дарителя. Они рассматривались как знак внимания, памяти. Так, Г. А. Племянников прислал 2 000 рублей. Эта огромная по тем временам сумма так и названа «почестью» 40. Сам он, подобно архангелогородскому воеводе В. А. Ржевскому 41, давал не взятку (почесть взяткой формально не являлась), а инвестировал средства в будущее, надеясь на «к нам милостивое уклонение» 42. Обычай дарить подарки («подносить в почесть») должностному лицу заранее для успешного продвижения дела имел глубокие корни в допетровской эпохе. В рамках теории патроната-клиентелы знаки внимания такого рода расцениваются как особая черта связи «патрон – клиент».
Важнее подарков было получение информации. Кроме донесений и писем лично А. Д. Меншикову, ему доставляли копии царских указов и сообщали о слухах (какая где «ведомость носитца») 43. Б. П. Шереметев весной 1705 г. написал А. Д. Меншикову: «…на меня не имей гневу, что я ни о каких ведомостях не пишу, понеже бо ниоткуда сам не имею» 44. Словом, поставлять информацию – еще одна характерная черта, которая может являться аргументом в пользу наличия связи «патрон – клиент» между А. Д. Меншиковым и многими его корреспондентами.
Влияние символического капитала царского фаворита было огромно и сказывалось на работе учреждений. Корреспонденты А. Д. Меншикова часто просили «поговорить» или послать письмо к решавшему дела начальнику. Тогда включалась сеть неформальных отношений, опутывавших всю элиту, и вопрос быстро разрешался исключительно, как писал один адресант фаворита, «для твоего, государева, имени» 45. Всё это делало ходатаев должниками светлейшего, ставило их в зависимое положение. Долговые обязательства – универсальный способ добиться подчинения, и чем больше у влиятельного лица должников, тем прочнее считалась связь, и тем сильнее была его власть.
Но всё же главным содержанием писем представителей знати и генералитета была просьба содействовать, предстательствовать перед государем, что было важнее всего, ибо «ресурсы первого порядка» получить без воли или одобрения государя было немыслимо. Дело в том, что А. Д. Меншиков занимал промежуточное положение между теми, кого можно назвать его клиентами, и повелителем – царем. Эта позиция в теории о патронате называется позицией манипулятора, посредника или брокера и считается самой выгодной в сети, а символический капитал брокера, основанный на полноте информации, обладал исключительной ценностью. А. Д. Меншиков имел свободный доступ к информации, шедшей к Петру I и от него. А. И. Репнин писал фавориту: «Живу в хлопотах и в труде, о чем тебе, моему государю, известно будет чрез писма, которыя я посылаю к великому государю» 46.
С точки зрения тактики клиентелы А. И. Репнин шел не совсем верным путем. Правильнее он поступал в другом случае, когда (подобно иным корреспондентам фаворита) посылал донесение и царю, и А. Д. Меншикову одновременно или отправлял ему донесение для последующей передачи государю, покорно ожидая, как «благоволит воля государева и твое рассмотрение» 47. Из собственных каналов связи А. Д. Меншиков порой знал больше, чем сам царь, и тогда информатор (в данном случае канцлер Ф. А. Головин) предупреждал: «…токмо прошу не изволь сего никому объявлять <…>, понеже я сие пишу без воли его царского величества, надеясь на твое ко мне благодеяние. И дабы оное не причтено мне было в какое своеволие» 48.
Несомненно, близость А. Д. Меншикова к царю была структурообразующим фактором для всей сети его отношений. Сподвижники Петра I опасались «гнева государева», в общении с ним необходим был посредник. В «отеческом заступлении и бережении» 49 нуждались все без исключения сподвижники царя: проблемы, стоявшие перед ними, были серьезные, а ответственность огромна. Страх ошибиться и на себе испытать справедливость пословицы «Государев гнев – посланник смерти», сковывал даже боевых генералов. Осаждавший летом 1704 г. Дерпт Б. П. Шереметев, написал А. Д. Меншикову: «…как у меня выстрелят бомбы и ядра, и провиант издержу, и затем станет промысл и ратные люди оголодают, чтоб не по-несть мне на себе государева гнева» 50. Полководца больше волновал гнев государя, чем успех осады. В подобном же «бедстве» оказался и генерал К. Э. Рённе 51. К предстательству А. Д. Меншикова прибегали не только наемные генералы вроде Н. фон Вердена, просившего «заложить за меня государю слово» о нужном ему отпуске 52, но даже давние сподвижники Петра I. Так, Т. Н. Стрешнев попросил: «Пожалуй, мой благодетель, естьли какая моя неис-права в делех моих, прикрой по своей ко мне любви, а я истинно тшание имею всегда, чтоб исправить» 53. Люди опасались совершить ошибку даже в обращении к царю, поэтому свои донесения присылали А. Д. Меншикову, чтобы он просмотрел их, лично передал в руки царя, при этом замолвил словечко, донес до ушей государя «правду и невинность нашу» 54. Порой к Петру I невозможно подступиться, если не выбрать «приблагополучный случай» 55, когда государь будет «негневен», в хорошем настроении, иначе можно испортить всё дело, да еще и пострадать. Впоследствии точно так же (выжидая «благополучное время») действовал секретарь государя А. В. Макаров, имевший своих клиентов [Павленко, 1984, с. 252].
Корреспонденты А. Д. Меншикова побаивались обидеть его тем, что обращаются прямо к царю, просили, чтобы он в этом случае «не прогневался» 56. Даже поздравлять государя с очередной победой следовало через посредника, как это сделал К. Э. Рённе в июле 1704 г.: «Пожалуй, государь, будь милостив, донеси государю: поздравляем от меня и от всех нас» со взятием Дерпта 57. Обращение к царю, минуя фаворита, по-видимому, не поощрялось. Так, Я. Любс и Х. Брандт, сначала поздравили царя с победой при Амовже, а затем написали А. Д. Меншикову: «…не подержи гневу, что мы сими добрыми вестми не могли оставить» поздравить государя 58.
Итак, в начале XVIII в. в адресованных А. Д. Меншикову письмах отмечены единичные случаи обращения «патрон», «отец» или «батька». Тем не менее у корреспондентов фаворита встречаются некоторые из формул просьб, которые характерны для патрон-клиентского лексикона. Дальнейшее изучение входящей корреспонденции канцелярии А. Д. Меншикова (дополненное ответными письмами и другими источниками), позволит поставить вопросы о формировании патрон-клиентских отношений в среде русской элиты начала XVIII в., его роли в системе власти, причине столь длительного фавора. Надо полагать, что система связей А. Д. Меншикова сложилась естественно, при стремительном взлете фаворита и, по-види-мому, во многом копировала систему неформальных связей предшествующей эпохи.
Kettering Sh. Gift-giving and Patronage in Early Modern France // Kettering Sh. Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Ashgate, 2002а. P. 131–151.
Kettering Sh. Patronage in Early Modern France // Kettering Sh. Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Ashgate, 2002б. P. 839–862.
Krom M. M. Private Service and Patronage in Sixteenth-Century Russia // Russian History. 2008.
Vol. 35. No. 3/4 (Fall-Winter). P. 309–320.
Lavrinovich M. B. A Servant of Two Masters? The Role of Patronage and Clientage in the Career Strategies of a Moscow Official in the Late 18th and Early 19th Centuries // Cahiers du Monde russe. 2018. Vol. 59. No. 1 (Janvier – mars). P. 7–36.
Scott J. C. Political Clientelism: A Bibliographical Essay // Friends, Followers, and Factions. A Reader in Political Clientelism. Berkeley, Los Angeles, London: Uni. of California Press, 1977. P. 483–505.
Список литературы "Наш патрон и заступник": язык корреспондентов А. Д. Меншикова
- Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность: исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияние на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. М.: Московский общественный научный фонд, 2000. 320 с.
- Базарова Т. А., Проскурякова М. Е. Русская армия и Ингерманландия в начале Северной войны (по материалам походной канцелярии А. Д. Меншикова): новые подходы к изучению // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2020. Вып. 22. С. 169–178.
- Бекасова А. В. Семья, родство и покровительство в России XVIII века: «Домовое подданство» графа П. А. Румянцева: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2006. 24 с.
- Гилев А. Введение. Черные кошки в темных комнатах: исследования политического патронажа в общественных и гуманитарных науках // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: Хрестоматия. М., 2016. С. 6–40.
- Заозерский А. И. Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени // Россия в период реформ Петра I. M., 1973. С. 172–214.
- Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М.: Наука, 1989. 308 с.
- Копелев Д. Н. Российский флот и патронат «с немецким лицом»: модель Крузенштерна // Проблемы социального и гуманитарного знания. Сб. науч. работ. СПб., 2000. Вып. 2. С. 29–68.
- Копелев Д. Н. Адъютантство на императорском флоте и остзейские «сети доверия» // Новый часовой. Русский военно-исторический журнал. 2001. № 11–12. С. 7–22; 2002. № 13–14. С. 15–27.
- Курукин И. В. Артемий Волынский и его клиенты // Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750). М., 2013. С. 225–233.
- Лавринович М. Б. Как поссорились Николай Петрович с Алексеем Федоровичем: патрон-клиентские отношения в русском обществе рубежа XVIII–XIX вв. // Российская история. 2016. № 3. С. 91–110.
- Накишова М. Т. Письма генерал-полицмейстера А. М. Девиера к князю А. Д. Меншикову 1718–1727 гг.: опыт содержательного анализа // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 12 (98). Ч. 2. URL: https://arxiv.gaugn.ru/s20798784 0009417-7-1/ (дата обращения 26.08.2021).
- Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М.: Мысль, 1984. 332 с.
- Павлов А. П. Патронатно-клиентельные отношения при московском дворе в годы царствования Михаила Федоровича // Петербургский исторический журнал. 2019. № 4. С. 84–98.
- Патронат и клиентела в истории России (материалы «круглого стола») // Новая политическая история. СПб., 2004. С. 255–287.
- Пек Л. Л. «Для короля не проявлять щедрость было бы ошибкой»: взгляд на патронаж при дворе первых Стюартов в Англии // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: Хрестоматия. М., 2016. С. 149–184.
- Полонский Д. Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А. Д. Меншикова с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011: Научный альманах. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 75–93.
- Полонский Д. Г. Православное духовенство в переписке с А. Д. Меншиковым: этикет, риторика и прагматика // Меншиковские чтения – 2012: Научный альманах. СПб., 2012. Вып. 3 (10). С. 96–110.
- Редин Д. А. Сон фараона, или крах Кирилла Нарышкина, четвертого московского губернатора // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 8. С. 57–78. DOI 10.25205/ 1818-7919-2020-19-8-57-78
- Седов П. В. «Он мне свой…» (Свойство при московском дворе XVII в.) // Нестор. Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. Технология власти. Источники, исследования, историография. СПб., 2005. С. 190–199.
- Тыгельский В. Фракция, которая не могла проиграть // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: Хрестоматия. М., 2016. С. 116–148.
- Эйзенштадт Ш. Н., Ронигер Л. Патрон-клиентские отношения как модель структурирования социального обмена // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: Хрестоматия. М., 2016. С. 366–413.
- Hall A. Patron-client relations: Concepts and Terms // Friends, Followers, and Factions. A Reader in Political Clientelism. Berkeley, Los Angeles, London: Uni. of California Press, 1977. P. 510–512.
- Kettering Sh. Gift-giving and Patronage in Early Modern France // Kettering Sh. Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Ashgate, 2002а. P. 131–151.
- Kettering Sh. Patronage in Early Modern France // Kettering Sh. Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. Ashgate, 2002б. P. 839–862.
- Krom M. M. Private Service and Patronage in Sixteenth-Century Russia // Russian History. 2008. Vol. 35. No. 3/4 (Fall-Winter). P. 309–320.
- Lavrinovich M. B. A Servant of Two Masters? The Role of Patronage and Clientage in the Career Strategies of a Moscow Official in the Late 18th and Early 19th Centuries // Cahiers du Monde russe. 2018. Vol. 59. No. 1 (Janvier – mars). P. 7–36.
- Scott J. C. Political Clientelism: A Bibliographical Essay // Friends, Followers, and Factions. A Reader in Political Clientelism. Berkeley, Los Angeles, London: Uni. of California Press, 1977. P. 483–505.
- ПиБ – Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб.: Гос. типография, 1900. Т. 4 (1706). 552 с.