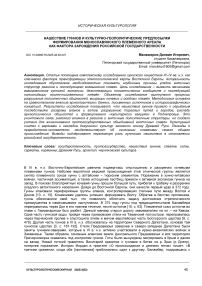Нашествие гуннов и культурно-геополитические предпосылки формирования монославянского племенного ареала как фактора зарождения российской государственности
Автор: Манаширов Д.И.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Историческая культурология
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена комплексному исследованию гуннского нашествия III–IV вв. н.э. как ключевого фактора трансформации этнополитической карты Восточной Европы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимать глубинные причины упадка античных структур региона и последующего возвышения славян. Цель исследования – выявить механизмы взаимовлияния гуннской экспансии, дезинтеграции полиэтнических сообществ и последующей консолидации восточнославянских племён. Объектом исследования выступают процессы разрушения полиэтничных общностей, миграции кочевых и оседлых племён. Методология основана на сравнительном анализе археологических данных, письменных источников и историографических концепций. Результаты исследования показывают, что нашествие гуннов привело к серьёзным последствиям: разгрому аланов и готов, разрушению торговых путей и городов, распаду археологических общностей и формированию «культурного вакуума» в Поднепровье. Это уничтожило связи римского влияния в регионе и античные полиэтничные структуры, но создало условия для возникновения протогосударственных объединений восточных славян. Культурный синтез с варягами и наследие догуннских культур заложили основу Древней Руси. Легенды о прародителях-основателях свидетельствуют об осознании славянами своего общего происхождения. Выводы подчёркивают переломную роль гуннского нашествия в становлении российской государственности.
Государственность, протогосударство, нашествие гуннов, славяне, готы, сарматы, норманны, Древняя Русь, архетип, черняховская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170211155
IDR: 170211155 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.48.007
Текст научной статьи Нашествие гуннов и культурно-геополитические предпосылки формирования монославянского племенного ареала как фактора зарождения российской государственности
В IV в. н.э. Восточно-Европейская равнина подверглась опустошению и разорению кочевыми племенами гуннов. Наболее вероятной версией происхождения этой этнической группы является синтез племенного союза хунну с алтайским – тюркским элементом. Поражение в хунно-китайских войнах, частичная ассимиляция, а также истощение пастбищ привели к активной экспансии гуннов на запад. В поисках благоприятных кочевий гунны прошли большой путь, прибегая к грабежу и разорению оседлого автохтонного населения. Дойдя до Восточной Европы, они нанесли первый удар в 372 году. Гунны атаковали периферийные группы аланов, контролировавших степные пути между Волгой и Доном [13, с. 15]. Кочевникам удалось успешно форсировать Волгу. Обратив в бегство противника, гунны обезопасили свой тыл, что позволило облегчить задачу достижения стратегического преимущества в намечавшемся наступлении. В 375 году гунны под предводительством Баламбера переправились через Дон в его нижнем течении, тесня остготов [15, с. 63]. Племенной союз остготов во главе с Германарихом был разбит. Данный маневр открыл дорогу завоевателям на юг – на Кавказ. Одна часть гуннской орды, пройдя через приазовские степи на Таманский полуостров, переправилась через Керченский пролив и опустошила огнём и мечом европейскую часть Боспорского царства [8, с. 479]. Другая часть гуннов в IV в. н.э. обосновалась на территории Северного Дагестана, основав там гуннское царство [3, с. 181-192]. Степи Предкавказья севернее и северо-западнее Дагестана были заняты гуннами-савирами, которые в VI в. н.э. активно участвовали в ирано-византийских войнах в Закавказье. Таким образом, основные аланские земли Центрального Предкавказья и вся территория Причерноморья оказалась под контролем гуннов. Готы были вынуждены мигрировать в Крым и далее на запад. Новый готский правитель Винитарий сразился с гуннами в битве на р. Эрак (р. Днепр), потерпев поражение. Историк Иордан в трактате «О происхождении и деяниях гетов» пишет: «В третьем сражении, когда оба [противника] приблизились один к другому, Баламбер, подкравшись к реке Эрак, пустил стрелу и, ранив Винитария в голову, убил его» [12, с. 115]. Это событие имело серьёзные последствия. Остготы и вестготы начали отступление во Фракию, а к 376 году гунны достигли восточной границы Римской империи [15, с. 64].
Последствия гуннского нашествия были поистине тектоническими. Сокрушённые гуннами аланы, германские и сарматские племена оказались вовлечёнными в Великое переселение народов, инициированное кочевниками с Востока. Торговые маршруты на Северном Кавказе и Причерноморье, связывавшие античный мир с Азией, перестали существовать или стали крайне опасными для караванов. Упадок товарооборота, нарушение поставок зерна и других ресурсов из черноморских провинций стали одной из существенных, хотя и не единственной, причин ослабления и последующего падения Западной Римской империи, и без того испытывавшей колоссальное давление варваров, спровоцированных гуннским натиском. Гунны не просто уничтожали города и селения; они разрушали саму инфраструктуру римского влияния в регионе, подрывая экономические основы империи.
Роль черняховской археологической культуры и входящих в неё этнических групп
Крупным полиэтническим образованием в ту эпоху являлась группа носителей черняховской археологической культуры. Этнический состав данной общности остаётся спорным. Существует мнение, что в её состав входили сарматы, готы, славяне, формируя полиэтническое образование. В.Д.Баран считает, что памятники черняховского времени не составляют единого целого, поэтому попытки связать их с какой-нибудь одной этнической группой (славянами или германцами) второй четверти І тысячелетия заранее были обречены на неудачу [4, с. 11]. Существует точка зрения о чёткой территориальной дифференциации полиэтнического населения черняховской культуры. М.А.Тиханова, говоря об этническом многообразии черняховской культуры и ее принадлежности скифо-сарматским племенам на востоке, гето-фракийским на западе в Поднестровье и славянским на северо-западе в Волыни выделяет локальные варианты [22, с. 190–194]. Но эта позиция, однако, в недостаточной степени доказана археологическими изысканиями. Данную культуру принято относить к провинциально-римской. В нач. IIІ в. н. э. римляне продвинулись в Причерноморье; к сер. ІІ в. н.э. они овладели Ольвией, тесно связанной с Поднепровьем Широкое хождение римского денария среди «черняховцев» – яркое свидетельство их вовлеченности в экономическую систему империи и процесса латинизации. Боспорское царство через торговлю также приобщало носителей черняховской культуры к благам цивилизации.
Важным городом причерноморской греческой державы был Танаис, расположенный в устье Дона. Являясь самой северной колонией греков, он был ближе всего к «варварскому миру» и как следствие население этого эмпория имело значительный сарматский элемент, сохраняющий черты черняховской культуры. В сер. III в. н.э. Танаис был разрушен готами в серии походов на Римскую империю. Д.Б.Шелов отмечает, что город восстанавливается в последней четверти IV в. н.э. [26, с. 307] Танаис частично возвращает статус центра земледельческого и ремесленного производства, просуществовав благодаря эллинизированным сарматам до нач. V в. н.э. Более важно то, какое самоназвание имели племена-носители черняховской археологической культуры. Византийский историк Зосим упоминает народ боранов (воранов), которые занимались морским и сухопутным грабежом Римской империи. Он рассуждает о деградации вертикали власти государства и чиновниках, неспособных «защитить государство» из-за того, что «их интересы были ограничены лишь городом Римом». Зосим пишет, что «готы, бораны, уругунды и карпы немедленно разграбили города Европы, захватив всё ценное, что в них еще оставалось» [11, с. 74]. Такая ситуация усугубляла и без того тяжёлое положение Рима. Проживание боранских и иных малоизученных племён в Северном Причерноморье вдоль Днепра даёт возможность предположить об их принадлежности к черняховской культуре. По-прежнему нерешённым остаётся вопрос о родственности боранов по отношению к другим группам. Существуют версии о германском, «скифо-сармато-аланском» и даже славянском происхождении [28, p. 210]. Проблема существования варварских культур без письменности затрудняет исследование этнокультурного пространства того или иного географического региона. Не стоит исключать возможность принадлежности боранов к праславянам.
В кон. I тыс. до н.э. и в нач. н.э., на протяжении столетий балты, славяне и германские племена проживали чересполосно, по соседству, что приводило к интегративным культурным процессам [24, с. 25]. Разнообразная по этническому составу, черняховская общность была одной из выдающихся в развитии материальной культуры. Основной ареал распространения черняховской культуры охватывает территорию от верховьев Буга и притоков Припяти на северо-западе до нижнего течения Днепра на юго-востоке. В этот период славянский компонент испытывает культурное влияние ираноязычных сарматских племён, что, однако, никак не способствовало развитию идентичности. Д.Т.Березовец утверждает, что «на территории Среднего Поднепровья черняховская культура исчезает где-то к V в., возможно, сохраняясь несколько дольше в более западных районах. Событие это связывается с гуннским нашествием. Гунны частично уничтожили население лесостепи, частично заставили его уйти со своих насиженных мест». И как итог, «население Поднепровья становится очень редким. На территории, ранее густо заселенной племенами черняховской культуры, создается своеобразный вакуум, частично заполненный передвижением населения из более северных районов. В этих условиях исчезает внутренний рынок, прекращается внешняя торговля, перестает поступать, римская монета, исчезают ремесла, прекращается производство гончарной посуды» [6, с. 15]. Создаются предпосылки этногенеза славян.
Ранние формы протогосударственных формирований
После разорения гуннами степей, лесостепей Восточной Европы и периода упадка начинается процесс складывания славянских племенных союзов. Б.А.Рыбаков замечает, что славяне фигурируют в источниках не ранее времени великого расселения славян в VI в. [19, с. 200] В VIII в. возникают протогосударственные формирования: Куявия – южный союз во главе с полянами с центром в Куяве (Киеве), Славия – северный союз во главе со словенами с центром в Славе (Салаве) (Новгороде, Ладоге), Арсания – союз, чьё местонахождение наиболее спорно, с центром в Арсе (Рязани, Чернигове или Тмутаракани). Данные наименования трёх территориально-политических объединений впервые упоминаются в сочинении арабского учёного-географа 1-й пол. X в. Абу Исхака Ибрахима ибн Мухаммада аль-Истахри в «Книге путей и государств». Географический трактат кон. X в. «Худуд альалам» даёт представление о границах расселения различных племён, в том числе восточных славян. Неизвестный персидский автор сочинения «помещает в бассейне Дона все три главные города русов: Уртоба (Арта), Салаб (Сала) и Куяту (Куябу) [5, с. 27]. П.П.Толочко отмечает, что «об активных процессах политической консолидации восточных славян свидетельствует рождение новой формы их поселений, "градов"» (ссылка на [14]. – Ред. ) с развитым ремесленным производством [23, с. 275]. Ранние грады были, в первую очередь, административными (политическими) средоточиями племён или союзов племён, а также военными крепостями в пограничных районах. Типологически эти формирования были «очень близки между собой и во всех случаях являлись точками роста восточнославянской государственности» [23, с. 163]. Таким образом, существование протогосударств подтверждается восточными источниками и свидетельствует о процессах становления монолитного этнокультурного пространства с незначительными регионально-племенными вариациями. Но их точное расположение остаётся предметом дискуссий.
Этногенетические мифы, легенды и религиозные представления как показатели консолидации
Лех, Чех и Рус – персонажи одной из наиболее известных и распространённых легенд о трёх славянских братьях, основателях и прародителях, соответственно Чехии, Польши и Руси. Три легендарных брата упоминаются в Великопольской хронике, составленной в нач. XIV в. Легенда гласит, что братья во время охоты погнались за разной добычей и, таким образом, отправились (и поселились) в разные направления: Лех – на северо-запад, Чех – на запад, а Рус – на северо-восток. Разделившись, они поселились на трёх землях.
Чешский источниковед Г.Добнер опубликовал несколько фрагментов из рукописи Великопольской хроники, обнаруженной в библиотеке выдающегося чешского гуманиста XVI в. Яна Годийовокого. Этот кодекс не был известен силезскому историку-краеведу Ф.Соммерсбергу и отличался от напечатанного им текста. Так, в прологе хроники, перепечатанном Добнером, отсутствовало предание о Лехе, Чехе и Русе, подтверждающее историческую общность чешского, польского и русского народов. По мнению Добнера, Соммерсберг составил легенду о трёх братьях под влиянием свидетельств о Чехе и Лехе, имеющихся в стихотворной хронике Далимила – первой исторической хроники на чешском языке. Так как время создания сочинения Далимила определяют 1308–1314 гг., то указанный текст Великопольской хроники мог возникнуть только позднее – в XIV в. [7, с. 12–13].
Пролог Великопольской хроники посвящен происхождению и расселению славян. Автор излагает легенду о трех братьях: Лехе, Русе и Чехе, которые, «умножась в роде», владели и будут владеть тремя королевствами: лехитов, русских и чехов [7, с. 23]. В прологе Великопольской хроники написано: «от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй – Рус, третий – Чех. Эти трое, умножась в роде, владели тремя королевствами: лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами, и в настоящее время владеют и в будущем будут владеть, как долго это будет угодно божественной воле; из них наивысшей властью и господством во всей империи всегда обладали лехиты, как это явствует из хроник и из их территории. У славян существует большое разнообразие в языках и в то же время они понимают друг друга, хотя в некоторых словах и в их произношении существуют, по-видимому, кое-какие различия. Языки эти берут начало от одного отца Слава, откуда и славяне (Slavs) они и до сих пор не перестают пользоваться этим именем, например Томислав, Станислав, Янислав, Венцеслав и др.» [7, с. 52–53]. Существование архетипа легендарного праотца, предка-прародителя свидетельствует о понимании славянами своего общего происхождения.
В.Л.Янин отмечает, что «автора Великопольской хроники можно считать “создателем” Руса – прародителя и эпонима русского народа. Таким образом, именно на польской почве окончательно оформилась традиция, свидетельствующая о давнем родстве чехов, поляков и русских – народов, которых хронист выделяет из остальных славян» [7, с. 24]. Из всего вышеперечисленного следует, что легенда предполагает общее происхождение поляков, чехов и русинов (эндоэтноним жителей Руси): в последующем русских, белорусов, украинцев, и иллюстрирует тот факт, что уже в XIII в. по крайней мере три разных славянских народа осознавали свою этническую и языковую взаимосвязь.
Т.И.Алексеева указывает на преемственность для следующих этнических и территориальных групп Древней Руси: белорусы – дреговичи, радимичи и западные кривичи; украинцы – тиверцы, уличи, древляне, волыняне, поляне; русские верховьев Десно-Сейминского треугольника – северяне. [2, с. 59]. Литературный памятник также показывает, что родина древних славянских народов находится в Восточной Европе. Эта область совпадает с регионом, который, согласно курганной гипотезе М.Гимбутас, был праиндоевропейской родиной в общем регионе Понтийско-Каспийской степи. Хотя локализация собственно славянской прародины (между Одером и Днепром, к северу от степи) остаётся предметом научных споров сторонников разных вариаций миграционной и автохтонной теорий.
Б.А.Рыбаков считает, что I тыс. до н.э. было временем расцвета праславянского патриархального язычества. Древние культы женских божеств продолжали существовать, но социальное развитие, усиление власти вождей, содействовало созданию славянского Олимпа с мужскими божествами во главе: «Пантеон князя Владимира возглавлял Перун, но Е.В.Аничков убедительно доказал, что выдвижение Перуна на первенствующее место связано с процессом рождения государственности Киевской Руси и не уходит в первобытность» [20, с. 603, 604].
Летописец Нестор упоминает, что все славянские племена «имели обычаи и законы своих отцов и предания, и каждые – свой нрав». Согласно Повести многие племена «имели одинаковый обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах» [17, с. 63]. Таким образом, в религиозном отношении славянские племена следовали традициям почитания предков и их образа жизни. Немало важным аспектом является факт поклонения персонифицированному образу небесного огня – Перуну (у балтов Перкунас). Схожесть скандинавского Тора и славянского Перуна в роли громовержцев позволили варягам наладить контакты с русами. Благодаря общим мировоззренческим системам выходцы из северных морей влились в восточнославянскую общность, сыграв значимую роль в формировании государственности.
Также Нестор в Повести излагает миф об основании Киева – важнейшего города Древней Руси. Летописец пишет: «Жили каждый со своим родом по своим местам и странам, владея каждый родом своим. И было три брата: одному имя Кий, второму же имя Щек, третьему же имя Хорив, а сестра их Лыбедь. И сидел Кий на горе, где ныне въезд Боричев, и жил с родом своим, а брат его Щек на другой горе, прозвавшейся от него Щековицей, а третий – Хорив, от которого прозвалась Хоривица. И построили городок во имя старейшего брата, и назвали его Киев» [17, с. 63]. Данный отрывок показывает попытку автора объяснить этимологию названий районов города.
Историчность существования этих братьев столь же легендарна, как и упоминание Леха, Чеха и Руса в западнославянских источниках. Однако данный сюжет прослеживается не только в культуре славян. Геродот описывает трёх братьев: Липоксая, Арпоксая и Колосая – сыновей прародителя скифов Таргитая: «От Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата – племя катиаров и траспиев, а от младшего из братьев – царя – племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, т.е. царскими» [9, с. 188]. Данный этногенетический миф [1] служит подтверждением существования единого культурного пространства в догуннское время. Вероятно, именно эпические традиции ираноязычных народов степей повлияли на позднейшее оформление славянских легенд о прародителях. Скифский мир объединял разные этнические группы, живших схожим образом. Изначально являясь кочевым ираноязычным варварским кластером, он становился всё более дифференцированным благодаря греко-римскому влиянию, переходу некоторых групп к оседлому образу жизни. У представителей восточных славян утвердилось этническое самосознание благодаря длительному развитию единой религиозно-мифологической картины мира, выраженной, в первую очередь, в наличии общего верховного божества – Перуна и этногенетического мифа о трёх братьях в рамках архетипа предка.
Катализатор этнокультурных трансформаций: славянские археологические культуры и этнополитические процессы
Гуннское нашествие как фактор дестабилизации привело к разрушению торговых путей (знаменитого «янтарного пути», путей по Днепру и Дону), упадку городов и кризису римского влияния в Причерноморье. Эти процессы привели к миграции аланов, готов и сарматов в рамках Великого переселения народов, что означало распад общности черняховской культуры. Последующие археологические культуры, ассоциируемые преимущественно со славянами – пражская и пеньковская (соотносимая с антами), – представляли уже гораздо более однородные в этническом плане сообщества. В.В.Седов отмечает развитие славянской керамики пражского типа из пшеворской, догуннского периода, тем самым удревняя становление славянского этноса [21, с. 67]. А.В.Черенцов отмечает, что «славянская принадлежность пшеворской культуры или ее части оказывается крайне проблематичной» и В.В.Седов излишне полагался на археологию в вопросах, касающихся определения этноязыковой идентичности [25, с. 271]. Относящиеся по одной из версий к славянам анты, по мнению М.В.Любичева, – это не обозначение конкретного славянского этноса, а скорее территориальное понятие [16, с. 191]. И.П.Русанова рассматривает пеньковскую культуру как сложное явление, состоящее из нескольких компонентов, что указывает на разнородный этнический состав её носителей. В частности, она отмечает наличие элементов «салтовской культуры и материалов типа Корчак и Луки Райковецкой» [18, с. 100] в ареале пеньковских памятников [18, с. 103]. Это позволяет некоторым исследователям предположить, что среди населения, связанного с пеньковской культурой, были представители ираноязычных групп сарматов.
Но наличие археологических материалов, относящихся к иным культурам, в данном случае стоит рассматривать как возобновление торговых связей после гуннского нашествия. М.Б.Щукин отмечает, что «цикл раннеславянских культур совсем не напоминал предшествующую черняховскую культуру», что подтверждает смешанный состав её представителей и несформированность обособленной славянской общности на том историческом этапе [27, с. 90]. Также немаловажным фактором освоения славянами новых земель стало нашествие аваров. Часть славян была разгромлена и попала в зависимость, что привело в поисках благоприятных условий к миграции на Балканы. На севере же укреплялись славянские племенные союзы благодаря торговле через Балтийское море. Равнинный коридор Северного Причерноморья ещё долгое время оставался во власти кочевников: хазар, печенегов, половцев, определяя даннический характер отношений со славянами под угрозой набегов степняков.
Вышеописанные процессы привели на некоторое время к опустошению лесостепной зоны Поднепровья. В результате сформировался «культурный вакуум». В.В.Седов отмечает, что славяне «не подверглись ассимиляции в римское время, а вышли на историческую арену крепким этноязыковым массивом, вероятно, включившим в себя и некоторые неславянские племена» [21, с. 43]. Последующая консолидация славянских племён представлена появлением трёх протогосударственных объединений (Куявия, Славия, Арсания) с центрами в Киеве, Новгороде и Рязани. Взаимодействие с норманнами означало синтез славянских и скандинавских культов (Перун–Тор), что послужило основой военно-политических союзов. Значительную роль играла эволюция социальной организации от родоплеменных структур к раннегосударственным институтам (княжеская власть, дружина). Немаловажную роль в складывании племенных союзов сыграла изолированность славян. Долгое время славянская общность, особенно восточная её часть, находилась в окружении всё новых волн кочевников: гуннов, аваров, булгар, что, с одной стороны способствовало независимому развитию, а с другой, ставило под угрозу разорения и потери идентичности. Оставался канал культурного обмена на севере, через Балтийское море с норманнами, что предопределило истоки становления Древнерусского государства в Ладоге.
Как итог, нашествие гуннов стало переломным этапом, уничтожившим античные полиэтнические структуры, но создавшим условия для доминирования славян. Утверждение этнического самосознания, культурный синтез славянских племён с норманнами и угроза на юге со стороны кочевников заложили основу возникновения Киевской Руси. Славянская общность, столкнувшаяся с иранской и тюркской угрозой ассимиляции, смогла выстоять как самостоятельный этнический компонент. Легенды и хроники X–XIV вв. служат доказательством осознания славянами общего происхождения, что способствовало политической консолидации. Гунны спровоцировали переселение варварских племён, уничтоживших Рим. Освободившиеся земли заселили славяне вплоть до р.Эльбы на западе, создав самобытную культуру. До сих пор топонимика Центральной Европы (Германия, Австрия) изобилует славяноязычными структурами (окончания наименований географических объектов на -itz, -in, -ow со славянскими корнями, названия таких городов как Берлин, Лейпциг, Дрезден и др.), а вместе с тем сохраняет память былых времён этнокультурного доминирования в регионе до германской экспансии под лозунгом ”Drang nach Osten” («Натиск на Восток» в высоком Средневековье) [10].
* * *
Исследование выполнено при поддержке и под руководством доцента кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета, кандидата исторических наук Гетмановой Елены Сергеевны. Автор признателен за предоставленные рекомендации по литературе и методологии исследования.