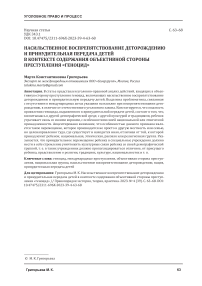Насильственное воспрепятствование деторождению и принудительная передача детей в контексте содержания объективной стороны преступления «геноцид»
Автор: Григорьева М.К.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4 (39), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен уголовно-правовой анализ действий, входящих в объективную сторону преступления геноцид, включающих насильственное воспрепятствование деторождению и принудительную передачу детей. Выделена проблематика, связанная с отсутствием в международных актах указания на насилие при воспрепятствовании деторождению, в отличие от отечественного уголовного закона. Констатируется, что опасность проявления геноцида, выраженного в принудительной передаче детей, состоит в том, что, воспитываясь в другой демографической среде, с другой культурой и традициями, ребенок утрачивает связь со своими корнями, с особенностями своей национальной или этнической принадлежности. Акцентировано внимание, что особенностью данного признака является такое перемещение, которое производится не просто в другую местность или семью, но целенаправленно туда, где существует и находится иная, отличная от той, к которой принадлежит ребенок, национальная, этническая, расовая или религиозная группа. Указывается, что принудительное перемещение ребенка в специальные учреждения должно нести в себе стремление уничтожить культурные связи ребенка со своей демографической группой, т. е. в таких учреждениях должно пропагандироваться отличное, от присущего ребенка, представление о религии, традициях, культуре, национальностях и т. п.
Геноцид, международные преступления, объективная сторона преступления, национальная группа, насильственное воспрепятствование деторождению, нация, принудительная передача детей
Короткий адрес: https://sciup.org/14129150
IDR: 14129150 | УДК: 343.1 | DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-63-68
Текст научной статьи Насильственное воспрепятствование деторождению и принудительная передача детей в контексте содержания объективной стороны преступления «геноцид»
Зарождение и развитие понятий о преступлениях, относящихся к геноциду, исторически происходило значительно позже самих деяний, совершаемых с целью полного или частичного уничтожения представителей национальных, расовых, этнических или религиозных групп. Постепенный подход к определению данных преступлений как геноцида произошел благодаря осознанию обществом бесчеловечного характера многих аспектов военных действий и признанию преступными отдельных наиболее жестоких методов ведения войны. Предотвращение последствий жестокого отношения к гражданскому населению во время войн становилось предметом правового регулирования национального законодательства цивилизованных стран постепенно, под влиянием формировавшихся гуманистических идей и развивавшихся международных отношений.
Геноцид представляет собой сложносоставное преступление, которое складывается из разных деяний, преступных самих по себе:
убийства, истязания, унижение чести и достоинства личности, уничтожение имущества, причинение вреда здоровью [1, с. 409].
Материал и методы
В статье использованы нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы уголовно-правового регулирования ответственности за преступление геноцид, специальная литература по предмету исследования, материалы, размещенные в СМИ. В качестве специальных правовых частнонаучных исследовательских методов использованы: формально-юридический метод, метод правового прогнозирования, метод правовой герменевтики.
Описание исследования
Одним из деяний, составляющих объективную сторону геноцида, представляет собой насильственное воспрепятствование деторождению. В результате совершения таких деяний у членов расовой, национальной, этнической или религиозной группы отсутствует возможность к воспроизведению, рождению детей и продолжению генетического существования такой группы.
В международном праве к таким действиям относят не только непосредственные насильственные действия, которые препятствуют физически продолжению рода, но и такие, как стерилизация, кастрация, прерывание беременности. Примером может служить решение международного трибунала по делу «Prosecutor v. A. Musema»1, в котором отмечено, что к воспрепятствованию деторождению следует относить и такие насильственные действия, как кастрация и стерилизация, причем насилие может быть как физическим, так и психическим.
В отечественном законе такие действия подпадают под смысл причинения тяжкого вреда здоровью, в связи с чем возникает вопрос о том, как квалифицировать их — как причинение тяжкого вреда здоровью или же как насильственное воспрепятствование деторождению?
А. Г. Кибальник и И. Г. Соломоненко отмечают, что «к таким действиям не может относиться медицинское вмешательство с проведением соответствующих операций» [2, с. 98.].
Е. Д. Ветошкина полагает, что «кастрация и стерилизация относятся к признаку причинения тяжкого вреда здоровью» [3, с. 72].
Г. Л. Москалев предлагает считать эти признаки «альтернативными и квалифицировать деяния, связанные со стерилизацией, кастрацией или прерыванием беременности как препятствование деторождению, а не причинение тяжкого вреда здоровью» [4, с. 84].
Разделяя подобный подход к толкованию рассматриваемых признаков, отметим, что в данной ситуации возникает конкуренция общей и специальной нормы. По общим правилам квалификации, при таком виде конкуренции предпочтение должно отдаваться специальной норме, которая по своему содержанию уточняет и конкретизирует общую [5, с. 119].
Таким образом, в случае установления факта насильственной кастрации, стерилизации или прерывания беременности содеянное следует квалифицировать как насильственное воспрепятствование деторождению.
Подтверждением этому является тот факт, что при проведении подобных процедур лицо теряет возможность к деторождению, теряет способность воспроизводить себе подобных, продолжать передачу генов той или иной расы, национальности или этноса, что в результате приводит к их исчезновению, а, следовательно, такая группа будет истреблена. Данные действия полностью подпадают под смысл геноцида и соответствуют тем целям, которые виновный ставит перед собой при проведении подобных манипуляций.
К насильственному воспрепятствованию деторождению относят также следующие деяния:
— недопущение заключения браков между людьми одной расы, этноса или национальности;
— недопущение совместного проживания лиц противоположного пола;
— недопущение контактов на сексуальной почве между такими людьми (таким способом активно пользовались в период Второй мировой войны в отношении евреев-узников концлагерей [6, с. 66]);
— медикаментозное подавление сексуальной функции и применение препаратов, снижающих половое влечение;
— принудительное использование контрацепции (в частности, в виде таблеток).
Здесь следует остановиться на таком признаке, как насильственность при воспрепятствовании деторождению. В международных актах указание на насилие при совершении таких действий отсутствует, в отличие от отечественного уголовного закона. История знает случаи, когда стерилизация женщин проводилась без применения насилия, однако путем обмана или злоупотребления доверием. Наиболее показательны в этом смысле действия, которые предпринимались в отношении индейских женщин в США в середине прошлого века и в Перу в 90-х годах.
В США женщин индейского происхождения убеждали в необходимости удаления матки при проведении других хирургических манипуляций (например, при удалении аппендицита). В результате таких действий пострадало более 20 тысяч женщин, рождаемость коренных американцев снизилась в рекордных количествах2.
Подобная политика проводилась и в Перу в конце прошлого века под руководством президента Фухимори, который таким бесчеловечным способом решил бороться с бедностью. За время действия этой программы более 300 тысяч женщин было стерилизовано, причем 90 % из них — насильно. Некоторым проводили стерилизацию под прикрытием другой операции, других убеждали, запугивали, шантажировали, большинство было подвергнуто вмешательству насильно1.
Другим альтернативным деянием, входящим в объективную сторону геноцида, является принудительная передача детей. Опасность такого проявления геноцида состоит в том, что, воспитываясь в другой демографической среде, с другой культурой и традициями, ребенок утрачивает связь со своими корнями, с особенностями своей национальной или этнической принадлежности.
Международные нормы говорят о необходимости уважения прав детей, сохранения их индивидуальных свойств и особенностей, которые включают не только имя и личные данные, но и гражданство, связь с семьей. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, не допускается изъятие ребенка из семьи и разлучение с родителями2. Исключение составляют случаи, когда семья или родители несут угрозу жизни и благополучию детей, однако решение о передаче ребенка в другую семью должно приниматься только судом.
Ребенок, переданный в другую демографическую среду, не теряет физических свойств, которые присущи ему от рождения, но в такой ситуации не происходит передача культурного наследия, правил и традиций, которые передаются между поколениями в той группе, из которой он изъят. Такой ребенок вырастает в иной культурной или религиозной среде, которую в итоге начинает воспринимать как свою и дальше уже передает ее своим потомкам.
Таким образом происходит уничтожение культурной и религиозной составляющей, которые определяют мышление ребенка, его поведение и отношение к миру [7, с. 59].
Законодатель прямо указывает на признак насилия при переселении детей, используя термин «принудительное», т. е. происходящее против воли потерпевшего и его близких. Потерпевшими в такой ситуации выступает сам ребенок, а также его родители либо законные представители, которые возражают против переселения ребенка.
Согласно действующему законодатель-ству3, ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Относительно возраста потерпевшего в литературе можно встретить мнения о том, что насильственная передача возможна только в отношении лиц, не достигших 16 лет [4, с. 79].
Полагаем, что при определении возраста потерпевшего следует исходить из общепринятых в отечественном законодательстве категорий, а снижение возраста лиц, которые могут быть принудительно переселены, приведет к снижению общественной опасности геноцида.
Истории известны случаи, когда перемещенные дети вырастали в чужой для них среде и полностью перенимали традиции того места, куда их переместили. Такую практику проводили в Османской империи вплоть до 19 века, перевозя захваченных на Балканах детей. Славянские мальчики обращались в ислам и служили султану, становясь преданными его воинами [8, с. 432].
В Конвенции 1948 года перемещение детей обозначено признаком «насильственное». В литературе высказываются мнения о том, что такой подход связан с особенностями времени, в котором принимался этот нормативный акт [9, с. 17], поскольку введение в действие УК РФ 1996 года основывалось на более поздних уголовно-правовых исследованиях, которые и легли в основу законодательства нашей страны.
Еще одной особенностью рассматриваемого признака следует назвать то, что такое перемещение должно производиться не просто в другую местность или семью, но целенаправленно туда, где существует и находится иная, отличная от той, к которой принадлежит ребенок, национальная, этническая, расовая или религиозная группа. Если же ребенок перемещается в другую местность, в которой существуют те же традиции, признак геноцида отсутствует, поскольку в таком случае ребенок не утрачивает связь с правилами, традициями, культурой своих предков, соответственно, не теряет своей идентичности. Только в случае перемещения ребенка в иную демографическую среду, в которой он утратит индивидуальные признаки своей группы, можно говорить о геноциде, поскольку такое перемещение будет направлено именно на истребление национальной, этнической, расовой или религиозной группы.
В литературе можно встретить мнение о возможности передачи детей не в семьи, но в специальные учреждения, создаваемые для содержания детей [10, с. 876]. Здесь мы не видим противоречия с общими трактовками рассматриваемого признака, однако важно иметь в виду, что такое перемещение также должно нести в себе стремление уничтожить культурные связи ребенка со своей демографической группой, т. е. в таких учреждениях должно пропагандироваться отличное, от присущего ребенка, представление о религии, традициях, культуре, национальностях и т. п.
На наш взгляд, термин «принудительное» является более удачным, поскольку охватывает не только насильственные способы изъятия и перемещения детей, но и иные, в том числе психическое принуждение или издание нормативно-правовых актов, результатом применения которых является перемещение детей в иную среду. Это могут быть и не насильственные методы, но тем не менее совершаемые без согласия как самих детей, так и их законных представителей.
Результаты исследованияи обсуждение
Воспрепятствование деторождению может происходить не только с применением насилия, но и путем обмана и злоупотребления доверием, когда членам какой-либо демографической группы внушается мысль о необходимости таких операций, как стерилизация, кастрация или прерывание беременности. Полагаем, что отечественное законодательство следует уточнить и исключить из диспозиции ст. 357 УК РФ указание на насильственный способ воспрепятствования деторождению.
Вызывают вопросы использование формулировки «детей» в множественном числе при описании действий по их принудительной передаче. Полагаем, что такая форма использована законодателем для того, чтобы подчеркнуть массовый характер, который свойственен геноциду, и при принудительном перемещении одного ребенка содеянное не должно квалифицироваться как геноцид. Однако, на наш взгляд, принижать значение жизни и дальнейшего развития одного ребенка по сравнению с большим количеством детей, не совсем правильно.
Заключение и вывод
Полагаем, что для квалификации перемещения детей как геноцида, необходимо конкретизировать, что дети передаются именно в другую социально-демографическую группу, которая отличается от той, к которой ребенок принадлежал ранее и в которой воспитывался. Это важно, поскольку в случае перемещения детей в ту же национальную, расовую, этническую или религиозную группу, не произойдет истребления группы, в которой дети находились и в связи с чем были перемещены.
На наш взгляд, даже при перемещении одного ребенка, если это сделано в целях дальнейшего уничтожения той группы, к которой он принадлежит, содеянное должно квалифицироваться как геноцид. Полагаем, что диспозиция статьи 357 УК РФ в этой части должна быть конкретизирована и сформулирована следующим образом: «принудительная передача одного или более лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в другую национальную, религиозную, расовую или этническую группу, либо в специализированное учреждение, принадлежащее другой группе».
Список литературы Насильственное воспрепятствование деторождению и принудительная передача детей в контексте содержания объективной стороны преступления «геноцид»
- Васильев С. С. Особенности правового регулирования преступлений против мира и безопасности человечества // Экономика и социум. 2021. № 6 (85). С. 505-508. EDN: UVCPZO
- Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. Преступления против мира и безопасности человечества = Crimes against peace and security of mankind. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004. 385 с.
- Ветошкина Е. Д. Геноцид в российском и международном уголовном праве: учебное пособие / под ред. Л.А. Воскобитовой. Москва: ИНФРА-М, 2015. 128 с.
- Москалев Г. Л. Уголовная ответственность за геноцид (статья 357 УК РФ): монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 187 с. EDN: ZNCFEP
- Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва: Юрист, 1999. 304 с.
- Кошкаров И. И. Великая Отечественная война в цифрах и фактах, 1941-1945 гг.: [книга о войне]. Глазов: ГГПИ, 2013. 236 с.
- Бобылов Ю. А. О биобезопасности населения России // Качественная клиническая практика. 2023. № 1. С. 55-65. EDN: JDYIGL
- Бальфур, Джон Патрик. Османская империя: шесть столетий от возвышения до упадка, XIV-XX вв. Москва: Центрполиграф, cop. 2018. 638 с.
- Гертель Е. Разграничение понятий "насилие" и "принуждение" в уголовном праве // Уголовное право. 2010. № 5. С. 17-19. EDN: MWLSOH
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. проф. А. И. Рарог. Москва: Проспект, 2017. 910 с.