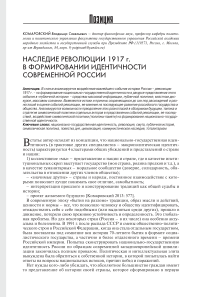Наследие революции 1917 г. в формировании идентичности современной России
Автор: Комаровский Владимир Савельевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 10, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется воздействие важнейшего события истории России - революции 1917 г. - на формирование национально-государственной идентичности в ракурсе представления этого события в «публичной истории» - средствах массовой информации, публичной политике, властном дискурсе, массовом сознании. Выявляются истоки и причины сохраняющихся до сих пор расхождений и разногласий в оценке событий революции, ее влияния на последующее развитие российского государства и общества. Анализируются возможности преодоления этих разногласий в обозримом будущем, тактика и стратегия символической политики отдельных акторов в представлении событий революции, ее последствий, воздействие символической политики (политики памяти) на формирование национально-государственной идентичности.
Национально-государственная идентичность, революция, смута, публичная история, символическая политика, повестка дня, цивилизация, коммунистическое наследие, тоталитаризм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168623
IDR: 170168623
Текст научной статьи Наследие революции 1917 г. в формировании идентичности современной России
В статье автор исходит из концепции, что национально-государственная идентичность (в трактовке других специалистов – макрополитическая идентичность) характеризуется 4 кластерами общих убеждений и представлений о стране и нации:
-
1 ) коллективное «мы» – представление о нации и стране, где в качестве институциональных скреп выступает государство (моя страна, родина предков и т.д.), а в качестве гуманитарных – моральное сообщество (доверие, солидарность, обязательства в отношении других членов общества);
-
– «значимые другие» – страны и народы, постоянное взаимодействие с которыми позволяет лучше понимать свое отличие, самобытность;
-
– интерпретация прошлого и конструирование традиций как общей судьбы и истории;
-
– проект желаемого будущего [Комаровский 2013: 577].
В современную эпоху «бытия на разломе» традиции, образ мысли и действий, ценности и нормы – все, что позволяло человеку и обществу идентифицировать, отождествлять себя с себе подобными (или выделяться среди других), пришло в движение, потеряло свою прежнюю устойчивость и определенность. Это глобальная проблема. Но для некоторых стран (Россия – в их числе) она особенно актуальна и болезненна. В 1991 г. после распада СССР и смены общественно-политического строя в Российской Федерации, когда она стала отдельным государством, была поставлена под сомнение вся история 70-летнего бытия в формате социалистического государства, а частично и более отдаленного времени – времени Российской империи. Попытка сконструировать национально-государственную идентичность России по образцам современной западноевропейской цивилизации закончилась полным провалом. Политическая и интеллектуальная элита вынуждена была обратиться к собственной истории, в которой попыталась найти ответы на вопросы национальных истоков, причин побед и поражений.
Нет нужды кого-либо убеждать, что абсолютное большинство граждан имеют то представление об истории своей страны, которое сформировано в первую очередь системой воспитания и образования, СМИ, отчасти исторической литературой, музеями, памятниками. Исключение составляет, пожалуй, лишь ближайшее прошлое, участниками событий которого являлись или сам человек, или его ближайшее окружение (отец, мать, дедушка и т.д.). Именно названные средства формируют общепринятые представления о прошлом – то, что называется публичной историей (в отличие от профессиональной истории, являющейся уделом специалистов-историков). И именно публичная история, интерпретация и презентация прошлого, адресованная широкой публике, оказывает большое влияние на формирование представлений о коллективном «мы», общей судьбе, мобилизацию групповой солидарности и служит строительным материалом для конструирования идентичности [Малинова 2015: 5-22]. Как отмечает Д. Белл, чтобы сформировать «чувство единства с другими людьми, принадлежащими к той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять себя с разворачивающимся во времени нарративом, в котором нации отводится центральная и позитивная роль» [Bell 2003: 72]. Конструирование нарратива – сюжетно сформированного повествования, который описывает и «объясняет» генеалогию общества, устанавливает связь между временем и событиями, задает шаблоны интерпретации конкретных событий прошлого, создает тем самым «инфраструктуру» коллективной памяти и объяснение того, каким образом из коллективного прошлого вырастает настоящее и будущее. Нарратив отражается (и закрепляется) в программах школьных учебников, учреждении памятных дат и праздников, государственной символике, ритуалах и церемониях, отмечающих наиболее значимые события в жизни страны. Помимо этого, он отражается и воплощается в тех или иных актах правового регулирования и принуждения (пример: преследование за отрицание факта холокоста), использовании общественных ресурсов для организации мероприятий, закрепляющих в памяти людей те или иные исторические события, точнее, их современную трактовку.
Завершая теоретическое введение к анализу заявленной проблемы, отметим следующее.
-
1. В эпоху развитости учреждений и средств отражения исторической памяти (музеев, мемориалов, выставок, документальных фильмов и т.д.), возрастания интереса населения к собственной истории она становится важным объектом современной публичной политики и формирования национально-государственной идентичности.
-
2. Обращаясь к прошлому, формируя политику памяти (символическая политика), политики решают в первую очередь насущные задачи современного бытия, такие как легитимация политического режима (или оспаривание этой легитимации), обеспечение поддержки принимаемых решений, мобилизация граждан на их реализацию (противодействие им), консолидация общества и обеспечение солидарности его членов, ориентация граждан по отношению к другим странам и народам. «Переписывание истории» в этой связи – процесс естественный и в какой-то мере необходимый, но лишь в определенных рамках, чтобы не нарушать общую логику повествования. Рамки переиначивания определяются глубиной тех изменений, которые происходят в обществе, уровнем конфликто-генности (солидарности) элитных кругов.
-
3. Интерпретация (переинтерпретация) событий прошлого связана, как правило, с их упрощенной трактовкой и, в той или иной мере, мифологизацией. Для политики важен не сам по себе исторический факт, а как он будет воспринят большинством граждан, как его подать, чтобы добиться желаемого эффекта. Особенно важно, какие факты и события исторического прошлого выносятся на повестку дня, становятся предметом публичного обсуждения, дискурса.
В качестве таковых в последние десятилетия, в период президентства В. Путина (временные рамки нашего анализа), следует выделить:
-
1) период зарождения российского государства (принятие христианства, К иевская Русь – X в.);
-
2) революция 1917 г. и все, что с ней связано;
-
3) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
Обращение к этим историческим событиям, попеременно или одновременно, диктовалось прежде всего задачами внутреннего государственного и общественного строительства, положением России на международной арене. Центральное место среди названных событий занимает, конечно, революция 1917 г., и не только в связи с приближающимся 100-летним юбилеем.
Самоопределение России, выбор вектора развития связан в первую очередь с трактовкой революции 1917 г. – главного события российской истории ХХ столетия. Как заявляют специалисты, ее последствия так грандиозны, что и через 100 лет Россия живет в созданном им социальном пространстве, в его магнитном поле, преодолеть до конца которое не представляется возможным. Ряд изменений в социальном поле России, вызванных большевистско-народной революцией 1917 г., оказались необратимыми [Современная Россия… 2014: 8, 62-98].
В чем эта необратимость? Начиная со времен Петра I и Екатерины II Россия считала себя неотъемлемой частью Европы. Так же и Европа (Запад) относилась к России. В 1917 г. эта связь была разорвана, и траектории развития России и Европы разошлись. После окончания Второй мировой войны от Запада отпали (как выясняется, не по своей воле) и страны Центральной Европы. В 90-х гг. прошлого столетия страны Центральной Европы и Прибалтики вернулись в лоно западной, европейской цивилизации. Россия – нет. В 2012 г. накануне переизбрания на президентский пост Владимир Путин заявил, что Россия – это особая многонародная цивилизация, скрепленная русским культурным кодом. Таким образом, ментальное размежевание с Европой (Западом), на котором настаивали определенные круги интеллектуалов уже не одно столетие, получило официальную поддержку. Затем позиция была уточнена: Россия – особая цивилизация, но в рамках общей европейской цивилизации. Таким образом, размежевание, необратимость все же относительны. Связь времен, сложность отношений с Европой отражена даже в символике России. Герб – византийский, олицетворяющий единение с христианской цивилизацией в ее православном варианте; флаг – времен Петра I, когда Россия стала неотъемлемой частью Европы, гимн (музыка) – советский. Включение советского гимна в число основных символов государства – констатация факта связи с событиями, связанными с революцией 1917 г., вне зависимости от того, вызывают ли эти времена чувство восхищения или горечи и стыда. Это констатация и того факта, что, несмотря на все громадные перемены и на то, что нынешняя Российская Федерация – это не Советский Союз, современный россиянин по-прежнему испытывает на себе существенное влияние советского прошлого.
Часть российских либералов клянет за это свой народ, утверждая, что его необходимо «переформатировать» и без этого невозможен прогресс, инновации, движение вперед. Автору проблема видится совсем не в таком черно-белом цвете. Если бы при социализме в сознании людей не укоренилось чувство общественного долга, в начале 90-х гг. прошлого столетия, когда врачам и учителям (и не только им) годами не выплачивали зарплату, закрылись бы все школы и больницы, остановились бы поезда и трамваи, и страну ждал бы коллапс.
Есть и другие важные причины выдвигать революцию 1917 г. на передний план. Вот первая из них. В отношении Великой Отечественной войны, происхождения Российского государства, его христианских корней в общем и целом в российском обществе сформировался консенсус. Особенно это касается войны 1941–1945 гг. Негатив, связанный с войной, – просчеты политического руководства страны накануне и в первый год войны, тяготы и лишения, связанные с войной, потеря близки и родных, неоднозначные политические решения накануне войны (например, пакт Молотова-Риббентропа) и многое другое, – его присутствие в публичном дискурсе рефлексируется гражданами страны, но на втором плане. В центре – мужество и героизм советского народа (русского, российского), его стойкость и мужество, способность переносить самые невероятные трудности и лишения, верность и любовь к собственной стране и государству, умение сплотиться перед общей бедой, выстоять в критической ситуации и победить самого сильного, самого лютого врага в лице фашизма и освободить не только себя, но и многие другие народы Европы от неизбежного порабощения. Все это переносится на современность как необъемлемые черты коллективного «мы» россиян, основа их идентичности, формирует дух победителя, гордость за державу, веру в особое предназначение (миссию) России. Абсолютное большинство россиян разделяют и поддерживают такой подход и такую оценку событий Великой Отечественной войны. В подтверждение лишь один факт: по данным многолетнего мониторингового исследования социологического центра РАНХиГС «Историческая память российского общества», отвечая на открытый вопрос: «Какими достижениями России Вы гордитесь?», – респонденты на 1-е место неизменно ставили победу в Великой Отечественной войне.
Обозначенная позиция в оценке Великой Отечественной войны вполне приемлема и для большей части политического истеблишмента всего политического спектра. Либеральную оппозицию в ней устраивает то, что победа достигнута не благодаря мудрости тов. Сталина или «организующей и вдохновляющей роли КПСС», а кровью и потом простого народа. Коммунисты же, отдавая должное патриотизму народа, не забывают, конечно, сказать и об «организаторах и вдохновителях» победы. Больше всего она устраивает проправительственные круги. Во-первых, потому, что позволяет на полную мощь использовать потенциал Победы в целях формирования единства нации, опираясь при этом на спонтанные творческие порывы и инициативы народа (например, «Бессмертный полк» – инициатива, которая всего несколько лет назад зародилась в Сибири, а теперь перешагнула даже границы страны). Во-вторых, она позволяет нынешнему правящему классу, с одной стороны, размежеваться с коммунистическим наследием, а с другой – выборочно использовать его достижения на отдельных направлениях. Безусловно, Великая Отечественная война была и останется в обозримом будущем одним из самых важных ресурсов формирования национально-государственной идентичности России.
Совсем иначе обстоит дело с революцией 1917 г. и ее последствиями для настоящего и будущего страны. Абсолютное большинство специалистов признают, что до сих пор в обществе, в экспертных кругах, среди историков нет единства ни в понимании смысла и значения революции, или в оценке ее воздействия на российскую государственность и российский народ. Объясняется это идеологизированностью аналитиков и малым временем для осмысления события такого масштаба: до 1991 г. господствовал апологетический взгляд на события 1917 г. и их последствия. Примерно еще десятилетие после 1991 г., наоборот, торжествовала апологетика всего того, что им противостоит. Автор готов принять это объяснение, но не в качестве конечной причины. Она в другом: солидарного взгляда на события такого масштаба быть не может по определению до тех пор, пока не станет солидарным нынешнее общество. В России еще не завершился процесс формирования нового глубоко дифференцированного, многослойного, постоянно обновляющегося общества, хотя уже произошли качественные сдвиги в экономической, социальной и политической сферах, завершается процесс формирования новых ценностей, отвечающих духу рыночной экономики и демократии. Россияне больше всего начинают ценить в окружающих людях активность и инициативность, гражданское достоинство, уважение к правам других людей и солидарность с ними [Горшков 2016]. Начал выстраиваться и образ желаемого будущего: жить в достатке, иметь хорошее здоровье, утвердить справедливость и разумное общественное устройство, что, прежде всего, предполагает торжество добродетели и вознаграждение по труду и квалификации. Но в отношении того, что такое социальная справедливость и насколько справедливо общественное устройство современной России, единства как раз и нет [Горшков 2016], а справедливость – одна из центральных ценностей для россиян. Доля населения, считающего, что общественный строй России не отвечает критериям справедливости, колеблется во временных рамках (сейчас она повысилаcь) и не полностью совпадает по результатам исследования ведущих социологических центров (Институт социологии, ВЦИОМ, Левада-Центр). Тем не менее она составляет около 40%. Многие из этих 40% считают, что советская система и советская власть были более справедливыми и эффективными, чем нынешняя российская власть [Шестопал 2015]. Отсюда и отношение ко всему тому, что связано с Октябрем 1917 г. и последствиями революции. Одна из главных причин несправедливости современного общественного устройства, причем это касается как России, так и других стран, – рост социального расслоения и бедности. Этому был посвящен и последний Всемирный социологический конгресс, проходивший в Польше в прошлом году.
Как заявил по этому поводу Дж. Стиглиц, политическая система США работает преимущественно на увеличение неравенства в доходах. Верхушка использует свою власть не только для несправедливого распределения, но и создания таких правил игры на рынке, которые действовали бы исключительно в ее пользу, а также для создания инструментов отъема у остального общества так называемых излишков.
Не думаю, что, если бы Дж. Стиглиц анализировал ситуацию в России, он что-то существенно поменял бы в своих оценках сложившейся ситуации. И, что, может быть, самое главное, рецептов решения проблемы социального расслоения и масштабов растущей бедности пока не может предложить никто – ни в России, ни в какой-либо другой стране.
Общий вывод: причину расхождений, диаметрально противоположных оценок событий 1917 г. и советской истории в целом нельзя понять без анализа тех коллизий, которые характеризуют современное российское общество.
Каков диапазон расхождений в оценках событий 1917 г.? В марте 2017 г. автор поручил студентам – слушателям его курса по проблемам идентификации провести анализ газетных публикаций, связанных с событиями революции в России в феврале 1917 г. (январь–февраль 1917 г.). Выяснилось, что в большинстве публикаций Февральская революция рассматривается всего лишь как пролог Октябрьской революции, как звено единого процесса, который и после октября 1917 г. растянулся еще на десятилетие. Соответственно, события февраля 1917 г., как правило, так или иначе связывались с событиями октября 1917 г. и последующими, вплоть до распада Советского Союза.
Диапазон оценок чрезвычайно широк – от переворота, организованного группой безжалостных авантюристов, проплаченного внешними силами (либерально-оппозиционная «Новая газета») до величайшей в истории человечества народной революции, указавшей светлый путь всему человечеству (прокоммунистическая «Советская Россия»). Что характерно, и в массовом сознании раз- брос оценок революции 1917 г. очень широк. По данным упомянутого выше мониторингового исследования социологического центра РАНХиГС, в начале нулевых годов примерно 1/3 опрошенных одобряли революцию, 1/3 – порицали и 1/3 – затруднялись выразить свою позицию. И только 10 лет спустя произошел существенный сдвиг. Отвечая на вопрос: «Как сказалась Октябрьская революция 1917 г. на судьбе России?» – в 2010 г. 40,4% ответили: «как бедствие для страны», 26,2% – «как благо для страны». Остальные затруднились с ответом. В этой ситуации в рамках заявленного подхода рассматривать крайние точки зрения не имеет смысла.
Как можно будет убедиться ниже, они не имеют никакого шанса закрепиться в массовом сознании, а значит и не представляют интереса для публичной истории. Они не могут быть взяты на вооружение правящим классом или другими акторами для формирования национально-государственной идентичности России с учетом того, что ее одновременно и целенаправленно формируют правящий политический класс, оппозиция, внешние игроки и что она спонтанно формируется помимо их усилий. Более перспективным представляется анализ другой дихотомии: в 1917 г. произошла (началась) настоящая революция, подобная Великой Французской революции XVIII в., или это очередная российская «смута», которая вытекает из самой сущности исторического существования российской государственности, ее временных успехов и периодических кризисов, неустойчивого равновесия между крайностями «смута – застой». Это равновесие периодически нарушается и возникает смута, в результате которой власть воспроизводит саму себя в новом обличии. В этом хаотичном самовоспроизводстве системы власти и состоит суть потрясений в России как в XVI в., так и дважды в 1917 г. Таков подход либерально настроенных историков, политологов и публицистов. Наиболее четко эта позиция представлена в трудах и выступлениях видного российского историка академика Ю.С. Пивоварова, в книге В.П. Прохорова «Красная смута». Много интересного на этот счет можно почерпнуть из всемирно известного произведения А. Солженицына «Красное колесо». Факт периодической смуты как разрушения государственности в российской истории не отрицают и коммунисты. Но, естественно, не по отношению к октябрю 1917 г., а к XVI в. и 1991 г. Полагаю, что обозначенный подход может быть задействован в том или ином качестве в официальной риторике, дискурсе, который обостряется накануне годовщины Октября. Для правящего класса в этом подходе есть как привлекательные, так и неприемлемые моменты. Привлекательные: революционные потрясения ничего позитивного не дают обществу, а лишь разрушают государственность, ввергают страну в хаос и братоубийственную войну. Этот подход можно широко использовать в целях формирования национально-государственной идентичности в плане укрепления государственности. Как показывают мониторинговые исследования Института социологии РАН, общенациональная идентичность россиян основывается, прежде всего, на едином государстве (66%), на представлении о территории (54%), государственном языке (49%), историческом прошлом (47%) [Дробижева, Рыжова 2015: 16].
Ясно, что неприемлемо для правящего класса и большинства народа и утверждение, что Россия движется по замкнутому кругу и «света в конце туннеля» не видно. Более органичным для формирования национально-государственной идентичности представляется подход, лаконично охарактеризованный Ю.А. Красиным как «величие и трагизм советского эксперимента» [Красин 2017: 10]. Его суть: советская система, начало которой положила революция 1917 г., – это один из ответов на кризис стадии развития индустриального общества в капиталистическом обличье, амбивалентный симбиоз массового творчества низовой демократии в лице новой формы организации власти Советов и автори- тарно управляемой политической организации в лице коммунистической партии. Это и определяет дуализм итоговой оценки значимости советского опыта, в котором парадоксальным образом слились воедино демократический подъем снизу, раскрепостивший народную инициативу, и жесткая тоталитарная версия национализации этой инициативы. Что привлекательного в этом подходе для власти? Во-первых, революция октября 1917 г. в этом подходе представлена как единственная возможность сохранить российскую государственность, чего не отрицал и такой непримиримый критик большевизма, как Н. Бердяев. А государственность, ее сохранение – это главное направление формирования идентичности для власти. Во-вторых, в центре, как и в случае Великой Отечественной войны, ставится энергия и творчество широких масс. В-третьих, этот подход позволяет выборочно использовать советский опыт. И в-четвертых, он не закрывает путь для критики этого опыта, прежде всего массовых репрессий, связанных с культом личности Сталина, а эта проблема – одна из самых острых в историческом наследии России. В стране еще живет достаточно много людей, отцы и деды которых прошли через гулаговские лагеря или погибли в застенках НКВД. Они не хотят ни забыть, ни простить тех, кого называют палачами. С ними солидарны многие демократически и либерально настроенные граждане.
И в то же время у значительной части общества отношение к Сталину до сих пор достаточно лояльное. Налицо, таким образом, коллективная травма, которая негативно отзывается на формировании чувства единства, сплоченности российского народа, формировании гражданской нации, национально-государственной идентичности.
Каковы перспективы преодоления этой коллективной травмы, формирования консенсуса вокруг революции 1917 г. и ее последствий? Этот больной вопрос рассмотрим на примере символической фигуры Сталина.
Чем привлекательна для части россиян фигура Сталина? Если это отражение тяги к «сильной руке», то компромисс невозможен. В определенной мере желание «сильной руки» имеет место в современном российском обществе. Ностальгия по сильной власти сегодня в разных формах артикулирована в части российского общества. Сталинская эпоха представляется героическим временем грандиозных перемен, во время которых общество было по-настоящему консолидированным, бессознательная агрессия удачно канализировалась как в трудовой энтузиазм, так и в отношение к реальным и мнимым врагам. Сам Сталин воспринимается как масштабная личность, инициировавшая такие глобальные трансформации в стране, что террор и насилие отступают перед их значимостью в качестве вполне приемлемой цены за столь значимые достижения [Сохань, Нездюров 2015].
Перекликается ли это с той поддержкой, которую общество искренне оказывает мягкому гибридному авторитаризму в современной России, основанному скорее не на принуждении, а на пропаганде и убеждении и допускающему существование оппозиции – как системной, так и несистемной? Отчасти да. Но еще в большей мере лояльность Сталину – это привлекательная и для нынешних россиян великодержавность, проецируемая на всю тысячелетнюю историю России, в которой Сталин – лишь один из эпизодов, хотя и очень значимый. Практически никто в современной России, как показывают данные многих исследований, не желает возрождения сталинизма и не готов платить любую цену за возвеличивание России. Хотят гордится великой страной – да, но не сверхдержавой, а великой. Великой, прежде всего, своими достижениями в обустройстве жизни собственных граждан, а не имперскими амбициями. И еще это упрек в адрес нынешней власти, ее безответственности и корысти. Сталин был жестоким для всех. Он не согласился обменять собственного пленного сына на немецкого фельдмаршала Паулюса, а нынешний правящий класс, вплоть до самых верхов, исключая лишь президента, думает, по мнению едва ли не большинства граждан, чаще о собственном обогащении, устройстве своих детей, нежели о государственных делах, нуждах народа.
И, пожалуй, самый значимый аргумент в пользу возможности движения к компромиссу, преодолению коллективной травмы, связанной с революцией 1917 г. В жизнь вступают новые поколения, для которых события недавнего прошлого не играют такой роли, которую они играют для людей, непосредственно причастных к ним. Острота противоречий, связанных с оценкой прошлых исторических событий, расколовших не так давно общество, постепенно пойдет на убыль, и появится возможность более взвешенной и более рациональной их оценки. Это, в свою очередь, создает условия для более органичного включения исторических начал в идентификационный процесс. Как показало исследование Института социологии РАН «Двадцать лет реформ глазами россиян», проведенное в апреле 2011 г., большинство населения страны не воспринимает бывший СССР ни как «империю зла», ни как «весну человечества». В массовом сознании сожаления по поводу распада СССР не наблюдается, равно как и желания его возродить, воссоздать в том или ином виде империю. Россияне живут настоящим, связывают свои надежды и ожидания с нынешней Россией. Их скорее разделяет не прошлое, а настоящее: доля выигравших от начавшихся в 1991 г. реформ составляет лишь 10%, и в 2,5 раза меньше тех, кто считает себя проигравшим в результате реформ [Комаровский 2016: 23].
В заключение – об эпицентре дискуссии, связанной с революцией 1917 г. Власть, похоже, уже определилась со своей позицией. В одном из интервью летом сего года президент Владимир Путин заявил: надо в первую очередь обсуждать не достижения и провалы революции, а что к ней привело, почему революция переросла в гражданскую войну, как избежать этого сценария в будущем. В общем и целом, такой подход приемлем для большинства экспертного сообщества, включая его либеральное крыло. Участники дискуссии «Революция как проблема российской истории», результаты которой опубликованы в упомянутом выше издании «Современная Россия: Дискуссия», в итоге констатируют: для аналитика-современника революция 1917 г. – это не констатация безволия царя, бездарности министров Временного правительства и т.п. Главная его задача – понять, как неизбежное столкновение различных политических сил и амбиций их лидеров, борьба за власть в условиях сложного общества, кризисных ситуаций может сочетаться с ответственностью за судьбы страны и народа; что нужно для того, чтобы борьба за свободу и справедливость не превратилась, в конечном счете, в русский бунт, «бессмысленный и беспощадный». Это действительно главная задача. Успех ее решения и будет определять в будущем масштабы воздействия исторических событий 1917 г. на формирование национально-государственной идентичности России.
Список литературы Наследие революции 1917 г. в формировании идентичности современной России
- Современная Россия: Дискуссия (под ред. И. Глебовой). 2014. М.: ИНИОН. 324 с
- Горшков М. 2016. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). 2-е изд., перераб. и доп. Новый хронограф. Т. 1. 416 с
- Дробижева Л., Рыжова С. 2015. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России. -Полис. Политические исследования. № 5. С. 9-24
- Комаровский В. 2013. Модернизация и национально-государственная идентификация России. -Rosja 21 wiek. Geopolityka, Gospodarka. Kultura. (red. Marian Wilk). Lodz: Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodowych w Lodz. C. 576-590
- Комаровский В. 2016. Национально-государственная идентичность России. -Россия в XXI веке. М.: Аспект Пресс. С. 12-30
- Красин Ю. 2017. Величие и трагизм советского «эксперимента». -Полис. Политические исследования. № 1. С. 10-23
- Малинова О. 2015. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН. 207 с
- Сохань И., Нездюров А. 2015. Нарциссическое очарование тоталитарной власти: опыт философской и психоаналитической рефлексии. -Публичная политика -2014: сборник статей. СПб: Норма. С. 72-81
- Шестопал Е. 2015. Четверть века политических реформ в России с точки зрения психологии. -Полис. Политические исследования. № 1. С. 136-151
- Bell D.S.A. 2003. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity. -British Journal of Sociology. Vol. 54. Iss. 1. P. 63-81