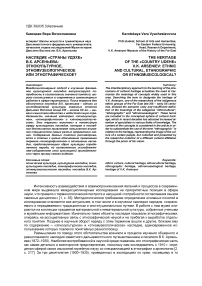Наследие "Страны удэхе" В.К. Арсеньева: этнокультурное, этномузеологическое или этнографическое?
Автор: Кавецкая В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Междисциплинарный подход к изучению феноменов культурного наследия актуализирует потребность в согласовании значений понятий, широко используемых в современных гуманитарных работах в сфере херитологии. Поиск термина для обозначения наследия В.К. Арсеньева - одного из исследователей культуры коренных этносов Дальнего Востока конца XIX - начала ХХ вв. - выявил смысловое единство и недостаточную определенность значений категорий «этнокультурное», «этнографическое» и «этномузеологическое». Эти термины включены в понятийную сферу культурного наследия, которая в последние десятилетия привлекает повышенное внимание специалистов самых разных направлений знания. Содержание данных понятий рассматривается в статье с целью обоснования применения термина «этнографическое» в отношении наследия, представляющего образ культуры определенного народа, но оставленного исследователем-собирателем иной культурной принадлежности через призму своего видения.
Этническая культура, культурное наследие, этнокультурное наследие, этнографическое наследие, этномузеологическое наследие, наследие в.к. арсеньева
Короткий адрес: https://sciup.org/149134897
IDR: 149134897 | УДК: 39(035.3) | DOI: 10.24158/fik.2021.2.17
Текст научной статьи Наследие "Страны удэхе" В.К. Арсеньева: этнокультурное, этномузеологическое или этнографическое?
Интенсивность взаимодействия и взаимопроникновения явлений и процессов в современном мире выдвинула междисциплинарные исследования на приоритетные позиции в сфере науки, что привело к терминологической пестроте и насущной «потребности согласования языков смежных дисциплин» [1, с. 35]. Методологическое требование определения основных понятий в исследовании становится все актуальнее, в том числе и в изучении наследия народов, сохраняемого и передаваемого традиционным и институциональным путями. В работе с ним музеи опираются на коллекции предметов материальной и нематериальной культуры, собранные учеными и музейными информантами. Изначально такие объекты наследия называли этнографическими, опираясь на ассоциативную связь с этнографической наукой и не прибегая к выработке отдельного понятия. Позднее в научный оборот наряду с этим термином вошли и другие, близкие ему по содержанию – «этнокультурное» и «этномузеологическое» наследие, единовременное использование которых повлекло понятийную разноголосицу.
Размышления по поводу этого обстоятельства возникли в процессе изучения обширного и разнопланового наследия известного дальневосточного путешественника и писателя В.К. Арсеньева (1872–1930). Наиболее востребованной в научной среде оказалась его этнографическая часть как самая детально и всесторонне представленная, поскольку сам исследователь с 1910 г. определил сферой своих изысканий музейную науку со специализацией в этнографии и археологии [2, с. 217]. За три десятилетия (1900–1930), проведенных в экспедициях по краю, носившему в то время название Уссурийский, ему удалось собрать множество разнообразных сведений о коренных этносах региона и прежде всего о небольшом «лесном» народе – удэхе. Они доступны в виде: – предметов материальной культуры, фотографий и визуальных реконструкций костюмов, переданных В.К. Арсеньевым в ведущие музеи страны и мира;
-
– записей в дневниках, отчетах, письмах, хранящихся в ряде архивов;
-
– научно-художественных текстов географической прозы писателя.
В процессе осмысления феномена культурного наследия В.К. Арсеньева возник вопрос, каким термином именовать обозначающее его понятие. В современных научных и публицистических текстах о культурном достоянии того или иного народа дефиниции «этнографическое», «этнокультурное» и «этномузеологическое наследие» часто используются интуитивно, в широком контексте, что ведет к смещению акцентов содержания, неточностям толкования и разночтениям. В статье интернет-версии Новой философской энциклопедии на сайте электронной библиотеки Института философии РАН понятие «определение» (от лат. «definitio» – «предел», «граница») трактуется как «логическая процедура придания строго фиксированного смысла терминам языка», т. е. «каждое определение задает не только смысл термина, но и его значение» [3]. С учетом этого тезиса попробуем прояснить принципиальные различия значений терминов, бытующих в сфере изучения наследия этнических культур.
Чаще всего используются категории «этнографическое» и «этнокультурное», хотя ни одна из них еще не обрела единой трактовки в научной среде. Наиболее разработанным является понятие «этнокультурное наследие», которое А.В. Смелякова определила как «материальные и нематериальные свидетельства жизнедеятельности этносов, сохраняющие и передающие социально значимую информацию об этнических культурах» [4, с. 103]. Она также подчеркнула, что в музеях такое наследие не является «собранием ненужных вещей», а выполняет ряд важных социокультурных функций: интеграционную, мировоззренческую, идентификационную, познавательную, воспитательную, сохраняюще-трансляционную и другие [5, с. 15]. Многие ученые разделяют ее мнение и опираются на него в своей работе [6]. Большинство активно работает с данной категорией и в отсутствии единого определения термина и общепринятых критериев принадлежности феноменов к этому виду наследия [7]. Так, в статьях П.В. Глушковой и Т.И. Кимеевой успешно анализируются возможности музея в актуализации этнокультурного наследия без определения последнего [8].
В трудах иных исследователей трактовка понятия, предложенная А.В. Смеляковой, дополняется и конкретизируется. Изучая музейную практику, Т.С. Курьянова пришла к выводу о комплексности культурного наследия и о присутствии в нем этнокультурной составляющей, которая сочетает в себе материальное, включая движимое и недвижимое, нематериальное и природное наследие как часть среды обитания этноса, и в музейном аспекте преобразуется в музейное и потенциально музейное наследие, а в сфере информационных технологий – в цифровое [9, с. 11].
Ученые Томского университета, опираясь на данные положения, представили этнокультурное наследие в виде многомерной модели, стратифицировав компонентную структуру А.В. Смеляковой. В качестве страт выступили результаты разных видов деятельности, специфика которых определяется их субъектами: архаическим коллективом (археологическое наследие), индивидуальным творчеством мастера (авторское наследие) и народом в процессе бытования традиций культуры (этническое наследие). Полагая, что каждая из страт присутствует во всех компонентах уникального наследия народа, томские ученые основным содержанием этнокультурного наследия обозначили «этническую культуру» [10, с. 127].
Авторы большинства публикаций, посвященных этнографическим раритетам, музейным коллекциям и туризму, оперируют термином «этнографическое наследие». Эту также недостаточно разработанную в современной гуманитарной науке категорию, предназначенную для обозначения одной из составляющих понятия «культурное наследие», часто используют на интуитивном уровне, вероятно, полагая, что смысл «этнографического» априори считывается по аналогии с дефиницией этнографической науки (в широком контексте) как «народоописания» или «народоведения». Термин применяется и при рассмотрении персонального наследия ученого, писателя или путешественника [11], а также различных аспектов культурного наследия какого-либо народа [12]. «Этнографическое» и «этнокультурное» нередко взаимозаменяются без четкого различения смыслового содержания дефиниций.
Особенно часто без определения значения термин «этнографическое наследие» используется в публикациях, посвященных проблемам этнографического туризма [13]. Многие авторы ограничиваются перечнем того, что включает в себя данное понятие. Так, в учебно-методическом комплексе «Рекреационная география» отмечены два вида этнографического наследия, вовлекаемого в туристские маршруты: музейные экспозиции и поселения, сохранившие традиционные формы хозяйства и культурно-обрядовой жизни конкретной местности [14]. Подробный перечень этнографических туристических объектов приведен Т.А. Киросовой [15, с. 86]. Но только диссертационное исследование В.Л. Блищ содержит определение этнографического наследия как «совокупности этнографических артефактов, признанных этнической общностью в качестве важных и репрезентативных для ее культурного своеобразия» [16, с. 3]. «Аутентичными репрезентаторами этнической общности», составляющими этот вид наследия, автор видит памятники народного зодчества, в том числе сакральные сооружения, исторические типы поселений, этнокультурные ландшафты, народную одежду, традиции питания, врачевания и воспитания, промыслы и ремесла, традиционную обрядность, народные игры, танцевальный фольклор [17, с. 3–4]. Сопоставление определений «этнокультурного» и «этнографического» наследия не выявило ярких отличительных признаков.
Поскольку категория «этнокультурное наследие» терминологически не вызывает вопросов, разберем детально определение понятия «этнографическое наследие», данное В.Л. Блищ. Прежде всего, это «совокупность этнографических артефактов». Слово «артефакт» (лат. «искусственно сделанный») в свете культурологии означает любой искусственно созданный объект, имеющий как определенные физические характеристики, так и знаковое/символическое содержание [18, с. 22]. Термин в форме прилагательного «этнографический» чаще используется применительно к практическим полевым исследованиям или профильной музейной деятельности [19, с. 9]. Иными словами, выражение «этнографические артефакты» значит «изъятые из живой культуры», по определению Л.В. Татауровой [20, с. 98]. Можно предположить, что обозначаемое этим термином наследие полностью относится к музейной сфере. Но в рассматриваемом определении присутствует критерий признания указанных артефактов этнической общностью в качестве репрезентантов ее культурного своеобразия, что отсылает к традиционному способу культуронаследования, социокультурным практикам и понятию «этнокультурное наследие». Получается, что в соответствии с определением В.Л. Блищ термин «этнографическое наследие» принадлежит как сфере культуры, живущей в традиции, так и сфере музеефицированной культуры. Однако, по мнению О.В. Бабенко, «содержание понятия “этнографический”, которое является основополагающим для комплектования музейных коллекций, постоянно меняется, поэтому вещи в виде коллекций всегда зависимы от тех концепций, которых придерживается этнограф» [21, c. 159]. Следовательно, можно предположить, что в мире институций наследия, к которым относятся музеи, более значимо признание артефактов репрезентативными для культурного своеобразия этнической общности не столько самой этой общностью, сколько этнографом, который исследовал и сформировал ее образ путем собирания музейной коллекции. Тем более что большинство музейных этнографических материалов собраны в конце XIX – начале ХХ вв. и отражают традиционную бесписьменную культуру коренных этносов, которая, по верному замечанию В.А. Тураева, в современном мире у многих малочисленных народов уже утратила системную функциональную целостность и сохраняет лишь отдельные элементы в виде семейных ритуальных практик и декоративно-прикладного творчества [22]. Поэтому представителям этнических сообществ зачастую проблематично давать экспертную оценку этнографическим артефактам, сохраняемым музеями. Они сами обращаются к музейному репрезентативному образу, созданному исследователями иной культурной традиции и эпохи, в целях сохранения и актуализации своей культуры.
Таким образом, уже на поверхностном уровне различимо наследие, которое признается этносом и сохраняется традиционным способом, и наследие, которое было изъято из среды бытования, описано и музеефицировано в разное время различными способами и, что особенно важно, разными субъектами. Можно предположить, что именно это обстоятельство подвигло группу участников международного проекта «Комплексное исследование белорусского этному-зеологического наследия А.К. Сержпутовского в собрании Российского этнографического музея (1906–1930 гг.)» [23] предложить третий вариант обозначения рассматриваемого нами феномена. Термин «этномузеологическое наследие» подчеркивает связь с музеефикаторскими практиками и музейным форматом наследования, чем отграничивается от понятия «этнокультурное наследие». Но посмотрим на его отношения с этнографическим наследием. Подобно тому, как последнее априори связано с понятием этнографии как науки, так и «этномузеологическое наследие» связано с понятием этномузеологии, которую И.В. Артюхова определяет как субдисциплину этнографии, изучающую проблемы, лежащие на грани этнографической науки и музеологии [24, с. 3], и предназначенную для осмысления музейного этнографического наследия. По мнению О.В. Лысенко, этномузеологическое наследие, собранное и помещенное в музей конкретным собирателем, как целостный образ (гештальт) может служить «эпистемологической моделью для исследования дискретного эмпирического материала, накопленного музеями. Этот многомерный комплекс включает: фольклорно-этнографический текст, фотографии, артефакты; соединяет в себе живую традицию и научную рефлексию; описывает исторический процесс на языке артефактов; демонстрирует органическую связь исследователя и его наследия (модель этнофора)»
[25, с. 26]. На первый взгляд, данный термин более всего подходит для определения наследия В.К. Арсеньева, но лишь той его части, которая хранится в музейном пространстве, причем не одного музея, а ряда музейных институций в нашей стране и за ее рубежами. В целом же народоведческое достояние исследователя заключено не только в музейных собраниях, но и в разнообразных материалах многочисленных архивов, текстах его произведений, которые часто называют географической или краеведческой прозой, а также в первых этнографических фильмах, научным консультантом которых он выступил. Не будет ли термин «этномузеологическое» ограничивать восприятие этого явления только музейными рамками?
В рассуждении над этим вопросом из множества определений культурного наследия были выбраны дефиниции А.С. Соколовой («важнейшая форма накопления и актуализации потенциала культурных форм в целях сохранения преемственности системы культуры и сохранения социально-культурной идентичности в различных ее формах…» [26]) и И.А. Урминой («процесс освоения многомерного социокультурного опыта: необходимого “набора” точек зрения на мир, картин мира, представлений, символов, традиций, стереотипов и образцов деятельности» [27, с. 317]). Интересна также позиция С.С. Реманович, соединяющая формальный и процессуальный подходы: видеть культурное наследие не только в предметной плоскости, «как вещи, сохраненные учреждениями памяти, т. е. музеями, архивами и библиотеками», а включать в него «широкий спектр функций исследования и сохранения вещественных доказательств всех видов деятельности человека в прошлом» [28]. «Этнографическое наследие», отражающее особый аспект общего понятия «культурное наследие», также являет себя формально и процессуально. Поэтому считаем правомерным применить к объекту нашего исследования этот термин, существенно изменив определение В.Л. Блищ, поскольку осознаем «этнографическое наследие» не как некое обобщенное наследие коренных народов Дальнего Востока, а как собранное и систематизированное конкретным исследователем.
Таким образом, термин «этнографическое наследие» будет означать совокупность этнографических артефактов и сведений, признанных их собирателем и исследователем наиболее важными и репрезентативными для восприятия своеобразия изучаемой и позиционируемой им культуры. Думается, что такая трактовка термина точнее отражает смысловую сущность понятия и применима к обозначению этнокультурного наследия, сохраненного конкретным человеком. Место понятия в круге рассмотренных категорий можно представить следующим образом. Наиболее общим значением обладает термин «культурное наследие», который конкретизируется в отношении этнической культуры любого народа понятием «этнокультурное наследие». Последнее сохраняется как традиционным («этнокультурное» в узком смысле), так и институциональным способами. Специалисты, осуществляя работу по сохранению наследия, производят его описание, изучают в процессе атрибуции и интерпретируют при репрезентации. Наследие, представляющее некий «продукт» такой интеллектуальной обработки, может быть названо «этнографическим». Часть его, сохраняемая и репрезентируемая музеями, представляет собой эт-номузеологическое наследие. Таким образом, в приведенном смысловом ряду «этнографическое наследие» является подчиненным понятием по отношению к «этнокультурному наследию» и подчиняющим – в отношении «этномузеологического наследия».
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Наследие "Страны удэхе" В.К. Арсеньева: этнокультурное, этномузеологическое или этнографическое?
- Чебанюк Т.А. Методы изучения культуры. СПб., 2010. 350 с.
- Тарасова А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М., 1985. 344 с.
- Определение [Электронный ресурс] // Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0178cc7134a5c64371161178 (дата обращения: 10.12.2020).
- Смелякова А.В. Этнокультурное наследие как ценность: аксиологический подход // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 2 (14). С. 102-105.
- Смелякова А.В. Казахские этнографические коллекции в музейных собраниях Западной Сибири : автореф. дис. ... канд. культурологии. Кемерово, 2009. 24 с.
- Белинская О.Н., Оленина Г.В. Фестивали народного художественного творчества в контексте сохранения и трансляции этнокультурного наследия // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 5 (60). С. 179-181.
- Быкова Е.В., Семиколенных А.А. Информационные ресурсы в презентации этнокультурного наследия России [Электронный ресурс] // Научное обозрение. 2018. № 1. С. 1-7. URL: https://srjoumal.ru/wp-content/uploads/2018/01/ID82.pdf ; Родионов С.Г. Сохранение этнокультурного наследия шорцев в музеях России // Общество: философия, история, культура. 2018. № 5 (49). С. 95-98. https://doi.org/10.24158/fik.2018.5.19.
- Глушкова П.В. Актуализация этнокультурного наследия музейными средствами // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 48. С. 125-134 ; Кимеева Т.И. Этнокультурное наследие коренных народов Притомья в музеях России // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). 2019. № 3 (21). С. 36-42.
- Курьянова Т.С. Актуализация культурного наследия коренных народов в музеях Южной Сибири : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2013. 23 с.
- Этнокультурное наследие ханты Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры в теоретическом и практическом дискурсе / О.М. Рындина [и др.] // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390. С. 126-131. https://doi.org/10.17223/15617793/390/22.
- Долгий С.А. Этнографическое и фольклорное наследие Н.Я. Никифоровского // Сборник работ 73-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета. В 3 ч. Ч. 1. Минск, 2016. С. 457-460 ; Несанелис Д.А., Семенов В.А. Традиционная этнография народа коми в работах П.А. Сорокина // Рубеж. 1991. Вып. 1. С. 47-56.
- Николаева Л.Ю. Особенности художественного языка сибирской неоархаики // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2019. № 1. С. 106-113.
- Соболева Е.С. Этнографическое наследие как туристический ресурс северной Португалии // Древняя и новая Рома-ния. 2013. № 11. С. 448-455.
- Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география : учебно-методический комплекс. М., 2005. 496 с.
- Киросова Т.А., Шубницына Е.И. Этнографическая составляющая внутреннего туризма как составляющая инновационного развития Республики Коми // Финно-угорский мир. 2011. № 2-3 (8-9). С. 86-89.
- Блищ В.Л. Этнографическое наследие белорусов в агроэкотуризме : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 2012. 24 с.
- Там же. С. 3-4.
- Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь. М., 1999. 343 с.
- Этнология / под ред. Т.А. Титовой. Казань, 2017. 404 с.
- Татаурова Л.В. Специфика археологического источника Нового времени // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 3 (36). С. 98-102.
- Бабенко О.В. Вещь в истории как объект научных исследований (по материалам журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana») // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История. Реферативный журнал. 2019. № 4. С. 158-164.
- Тураев В.А. Традиционные культуры народов Дальнего Востока: проблемы без перспектив // IX Конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов. Петрозаводск, 2011. С. 230.
- Лысенко О.В., Михайлова А.А., Гавришина В.В. Проект «Этномузеологическое наследие А.К. Сержпутовского»: апробация аналитических стратегий [Электронный ресурс] // Новые российские гуманитарные исследования. 2015. № 10. С. 1. URL: http://www.nrgumis.ru/articles/1951/ (дата обращения 14.12.2020).
- Артюхова И.В. Традиционная материальная культура русских Томского края в коллекциях Томского областного краеведческого музея : автореф. дис. . канд. ист. наук. Томск, 2008. 28 с.
- Лысенко О.В. Деперсонализация фольклорно-этнографического текста как эпистемологическая стратегия этнографической науки // Международный конгресс «Традиционный фольклор народов России и стран СНГ» : тезисы докладов. СПб., 2018. С. 25-26.
- Соколова А.С. Методологические проблемы исследования культурного наследия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. № 4 (130). С. 234-239.
- Урмина И.А. Роль и значение культурного и природного наследия в формировании человеческого потенциала России // Россия: тенденции и перспективы развития : материалы XV Международной научной конференции. М., 2015. С. 317-322.
- Ремарович С.С. Области применения онтологий - культурное наследие, биологические системы [Электронный ресурс] // MyShared. URL: http://www.myshared.ru/slide/265590/ (дата обращения 19.12.2020).