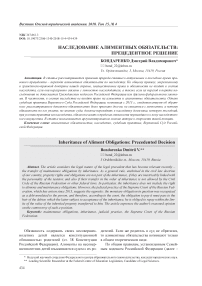Наследование алиментных обязательств: прецедентное решение
Автор: Бондаренко Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Статья в выпуске: 4 т.15, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается правовая природа ставшего актуальным в последнее время правового прецедента - перехода алиментных обязательств по наследству. По общему правилу, закрепленному в гражданско-правовой доктрине нашей страны, имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами. В частности, в состав наследства не входят право на алименты и алиментные обязательства. Однако судебная практика Верховного Суда Российской Федерации, возникшая с 2013 г., свидетельствует об обратном: рассматриваемое денежное обязательство было признано долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате, по мнению суда, должна переходить к наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В статье высказывается аргументированное мнение автора о спорности такой позиции.
Алиментные обязательства, наследство, судебная практика, верховный суд российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/143166097
IDR: 143166097 | УДК: 347.661.3 | DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-4-434-439
Текст научной статьи Наследование алиментных обязательств: прецедентное решение
Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей является конституционной обязанностью родителей (ст. 38 Конституции Российской Федерации). Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их ро- дителей. Если же родитель в суд не обратился, то алиментные обязательства возникают только в общем теоретическом виде.
По общим правилам, установленным Семейным кодексом Российской Федерации (далее –
СК РФ), алименты присуждаются с момента обращения в суд, т. е. с даты поступления заявления о взыскании алиментов. Механизм взыскания, права и обязанности сторон алиментных обязательств, судебных приставов-исполнителей в настоящее время достаточно урегулированы и представляют собой вполне отлаженный механизм правового регулирования со сложившейся судебной и правоприменительной практикой. Придумывается и используется все больше различных способов принудительного взыскания (при прохождении пограничного контроля в аэропортах и т. п.). Однако в настоящее время все больший интерес вызывают правоотношения, связанные с наследованием алиментных долгов после смерти должника-алиментщика, обусловленные прецедентным переворотом в российской судебной практике, произошедшим в 2013 г.
В соответствии со ст. 418, а также с ч. 2 ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами. В частности, в состав наследства не входят право на алименты и алиментные обязательства (раздел V СК РФ). Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты (абз. 6 ч. 2 ст. 120 СК РФ). Норма более чем определенная и понятная, не вызывающая у правоприменителя особенных вопросов.
Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что не связанные с личностью наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства (наследственного имущества). При этом к наследникам одновременно переходят права на наследственное имущество и обязанности по погашению соответствующих долгов наследодателя, если они имелись на день его смерти. Наследник должника, при условии принятия им наследства, становится должником кредитора наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Не наследуются и с момента смерти должника прекращаются на будущее обязательства по уплате алиментов как обязательства, неразрывно связанные с личностью должника, даже если на момент его смерти имелось вступившее в законную силу решение суда об обязании уплачивать алименты, а должник при жизни их выплатить не успел.
Однако судебная практика Верховного Суда Российской Федерации, начиная с 2013 г., пошла иным путем. Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации1, судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, возлагает на него обязанность ежемесячно выплачивать конкретную денежную сумму, неуплата которой влечет возникновение денежной задолженности (денежного обязательства). Такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла, что допущенные судами (первой и второй инстанций, первоначально рассмотревших дело в соответствии с традиционным пониманием этого вопроса) нарушения норм материального права, являясь существенными, повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. Соответствующий материал был возвращен в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. После этого суд первой инстанции противоречить суду высшей инстанции не стал и принял аналогичную позицию. С тех пор такая практика начала складываться повсеместно.
А как обстоит дело с иными видами имущественных обязанностей, связанных с личностью должника-наследодателя? Так, в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – Пленум ВС РФ) от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»2 разъясняется, что имущественные требования и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина (взыскателя или должника), в силу ст.ст. 383 и 418 ГК РФ прекращаются на будущее время в связи со смертью этого гражданина либо в связи с объявлением его умершим.
Вместе с тем, как указывает Пленум ВС РФ, если имущественные обязанности, связанные с личностью должника-гражданина, не были исполнены при его жизни, в результате чего образовалась задолженность по таким выплатам, то правопреемство по обязательствам о погашении этой задолженности в случаях, предусмотренных законом, возможно. Например, согласно подп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) погашение задолженности умершего налогоплательщика-гражданина осуществляется его наследниками в отношении транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством (п. 3 ст. 14, ст. 15, подп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ). Возможность правопреемства в отношении иных налогов, а также различных сборов, включая государственную пошлину, не предусмотрена.
Однако по вопросу о том, влечет ли смерть лица, причинившего вред, прекращение обязательства выплатить компенсацию морального вреда, существуют две противоположные позиции высших судов. Приведенная ниже практика сложилась до внесения изменений в ст. 151 ГК РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ3, однако сохраняет актуальность и сегодня, поскольку регулирование ситуации не изменилось.
В соответствии с первой позицией в случае смерти лица, причинившего вред, обязанность выплатить компенсацию морального вреда пре-кращается4. По смыслу п. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство компенсировать причиненный моральный вред может быть исполнено должником, так как неразрывно связано именно с его личностью.
Правопреемство в данном случае законодательством не предусмотрено.
Согласно второй позиции в случае смерти лица, причинившего вред, обязанность выплатить компенсацию морального вреда переходит к его наследникам. Если лицо, причинившее моральный вред, умерло, обязанность выплатить денежную компенсацию переходит к его наследникам как имущественная. Наследники должны выплатить ее в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного иму-щества5.
Представляется, что такая разница во мнениях органов судебной власти связана с различным пониманием сущности обязательства в целом как института гражданского права, денежного обязательства как его подвида, а самое главное – с пониманием связи обязательства с личностью.
В римском праве понятие obligatio появилось в числе первых юридических понятий. Смысл его состоял в указании на такую связь, зависимость двух лиц, при которой одно лицо является управомоченным, а второе – обязанным, в результате ее установления одно лицо имеет право требовать что-либо от другого – обязанного – лица [5, с. 293].
Этимология русского слова «обязательство» совершенно ясна: все соответствующие словари (включая словарь М. Фасмера) однозначно указывают на древнеславянское «вязати» как основу современного слова «обязательство». Его перфектная форма «о-бязати» весьма удачна, свидетельствует о завершенности действия, говорит об уже возникшей связи, сложившемся взаимодействии (то же мы найдем и в других славянских языках). В России (на Руси) это слово устойчиво использовалось в самых древних письменных источниках. Существо такого взаимодействия заключалось в предопределенности (зависимости) состояния одного лица поведением другого, в том числе в связи с долгом [6, с. 9–10].
По общему правилу, личность должника, его персональные характеристики, умения, навыки не существенны для возникновения обязательств.
Но иногда эти обстоятельства приобретают юридически значимый характер. Если они касаются вопросов исполнения, то уместно деление обязательств на личностные и безличностные . В таких случаях совершение требуемого действия составляет обязанность только и исключительно самого должника, которую он не может перепоручить другому лицу. Чаще всего это связано с его персональными (иногда уникальными) возможностями, придающими полученному результату особые достоинства (качества); обычно это наблюдается в сфере выполнения подрядных, научно-исследовательских работ, при создании результатов интеллектуальной деятельности. Но, как правило, такое условие соглашения требуется специально закреплять (кроме случаев, установленных законом, – см., например, ст. 780 ГК РФ); в противном случае предполагается, что должник может перепоручить совершение действия любому третьему лицу (неопределенному кругу лиц) [6, с. 243].
Таким образом, связано с личностью только такое обязательство, которое и прекратиться может только с исполнением его именно этой личностью или со смертью этой личности. Это обязательство неотчуждаемо, т. е. не может быть передано иным лицам, например, ст. 383 ГК РФ запрещает переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Невыполнение такого обязательства влечет определенные неблагоприятные последствия только для этой самой личности и больше ни для кого другого.
Обязательства также могут быть разделены на денежные и иные . Обсуждать этот вопрос не было бы смысла, если бы с наличием или отсутствием именно денежного обязательства не связывались определенные последствия.
Законодательное определение денежного обязательства в настоящее время в российском гражданском праве отсутствует. При этом оно имеется в отдельных нормах и применительно к конкретным ситуациям, т. е. для регулирования лишь определенных отношений.
Основная трудность вычленения денежных обязательств из общей массы правоотношений связана с тем, что практически все они так или иначе связаны с деньгами, но неясно, какой аспект связи учитывать. Например, деньги могут составлять объект не только отношений по платежу, но и других правоотношений: по перевозке, хранению и т. п.
В литературе денежные обязательства также определяются по-разному. Например, по мнению Л. А. Лунца, под ними следует понимать те правоотношения, в которых передаются сами знаки, признаваемые деньгами [3, с. 252]. Еще проще определял денежные обязательства О. С. Иоффе: это обязательства, «связанные с уплатой денег» [2, с. 14].
Судебная практика в целом также исходит из того, что под денежным обязательством нужно понимать лишь то правоотношение, по которому деньги уплачиваются, в том числе и в безналичной форме, для погашения долга. Обязательства, целями которых являются лишь учет денежных средств, хранение их на счете, перечисление другим лицам и пр., обычно именуются обязательствами по выполнению финансовых услуг и отграничиваются от денежных обязательств. Важно каждый раз выяснять, в чем заключается содержание соответствующего обязательства; например, если неправильно проведенные операции по банковскому счету клиента привели к необоснованному списанию с него денежных средств, такие обязательства рассматриваются как денежные6.
Таким образом, далеко не все обязательства, в которых передаются деньги, можно считать денежными. Как отмечает В. А. Хохлов, специальных разъяснений о том, является ли обязательство по выдаче кредита денежным, высшие судебные инстанции не давали, но в целом заметно их скептическое отношение к отождествлению обязанности выдать кредит и денежных обязательств в их обычном понимании [6, с. 34].
По мнению Д. В. Добрачева, проблема определения понятия денежного обязательства – одна из наименее разработанных в российской циви-листической доктрине [1, с. 44]. Несмотря на существование различных точек зрения на правовую природу денежного обязательства, в целом с достаточной степенью определенности можно согласиться с мнением Д. В. Добрачева о том, что денежное обязательство – это правоотношение, в котором одно лицо, кредитор, вправе требовать от другого лица, должника, уплаты определенной или определимой денежной суммы, а должник обязан совершить платеж [1, с. 47].
Алиментное обязательство является обязательством, которое может возникнуть у конкретного физического лица по отношению к другому конкретному физическому лицу, которому по решению суда будет установлена обязанность ежемесячно уплачивать определенные денежные суммы. Это обязательство может возникнуть только у должника, который является родителем ребенка-кредитора, не осуществляющим свою конституционную обязанность по содержанию детей, в результате вступления в законную силу соответствующего судебного решения. Предъявить требование об уплате алиментов к какому-либо другому лицу невозможно. Данное обязательство неразрывно связано с личностью должника. Если этот конкретный должник не исполнил судебное решение и не уплатил определенную денежную сумму кредитору, то данное конкретное обязательство осталось неисполненным, а у не исполнившего его лица образовался денежный долг. Но долг этот, по нашему глубокому убеждению, является тем же самым алиментным обязательством, которое осталось неисполненным. И оно по-прежнему связано с личностью именно этого конкретного должника. И поэтому даже если должник умер, не исполненное им алиментное денежное обязательство продолжает оставаться неразрывно связанным именно с ним и не может перейти по наследству. В данном случае понятие «долг» абсолютно тождественно понятию «обязательство» и его конкретной разновидности – «денежное обязательство».
Алиментное обязательство возникло из-за конкретной личности и связано только с ним. Но если эта конкретная личность не выполняет данное обязательство, то этот долг уже от нее, по мнению судей, не зависит и никак с ней не связан! Но раз уж этот долг переходит по наследству, то становится возможным его, например, продать или заложить в обеспечение другого обязательства. А почему – нет, если он не связан уже с личностью должника? Но этого не происходит, потому что получается абсурд.
Невыплаченный долг не возник сам по себе, не появился из ниоткуда. Он является прямым следствием невыполнения личной обязанности должника-наследодателя, который навсегда является единственным ее родоначальником и «хозяином». Личность наследника должника имеет в данном случае самое решающее значение: у него такого обязательства не было, и он не может отвечать по обязательствам другой личности. Именно поэтому законодатель четко, определенно и недвусмысленно закрепил: «Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты» (абз. 6 ч. 2 ст. 120 СК РФ). Причем в данной редакции, если читать ее буквально, содержится именно четкая и прямая дефиниция: выплата прекращается. Это означает, что обязательство прекратилось, его больше нет. А следовательно, невозможно передать по наследству то, чего нет.
Представляется уместным провести здесь аналогию с прекращением алиментных выплат в связи со смертью лица, получающего алименты. Если следовать логике судей Верховного Суда Российской Федерации, создавших описываемый здесь прецедент, к наследникам умершего лица, получавшего алименты, унаследовавшим в составе наследственной массы еще и права, должно перейти и право получать невыплаченные алименты. А если умерли все: и наследодатель-должник, и лицо, получающее алименты? В этом случае у обоих есть наследники, и тогда, по логике судей, наследники лица, получавшего алименты, могут взыскать с наследников должника невыплаченные им при жизни суммы? Если считать денежным обязательством, которое почему-то оторвалось от личности должника, то тогда такая схема должна работать. Однако же этого не происходит, поскольку такая ситуация абсурдна. На наш взгляд, только путем доведения до абсурда можно показать всю нелепость позиции судебных толкователей о том, что «неуплата алиментов влечет за собой возникновение денежной задолженности (денежного обязательства), которая является долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества»7.
Судебное толкование, сформированное в данном определении Верховного Суда Российской Федерации, получило в данном случае силу и статус судебного прецедента как самостоятельного источника права, изменив смысл («дух») закона как главного источника права нашей романо-германской правовой системы. Такой подход к регулированию общественных отношений чужд континентальной правовой системе. При подобном подходе можно по-своему истолковать и перевернуть смысл практически любого законоположения, даже однозначного, простого и недвусмысленного. Статус этого судебного акта как акта суда высшей инстанции позволил этой точке зрения стать доминирующим образцом для последующего применения. Изменить позицию в данном вопросе будет означать изменить позицию Верховного Суда Российской Федерации, что сразу же негативно отразится на его имидже и создаст широкий общественный резонанс.
В этой ситуации представляется необходимым апеллировать к другим актам судебного толкования разъясняющего характера Верховного Суда Российской Федерации. В пункте 15 постановления от 29 мая 2012 г.8 закреплено ранее сформированное в законодательстве положение о том, что имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке на- следования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (разд. V СК РФ) [4, с. 5–10].
Здесь совершенно четко и не случайно приводится деление на два самостоятельных института: а) право на алименты и б) алиментные обязательства. И если права на алименты должника, который умер, у кредитора нет, и это не вызывает вопросов, то вот алиментные обязательства, возникшие по решению суда еще при жизни алиментщика, почему-то превратились в денежные обязательства, не связанные с личностью должника, а поэтому перешли в порядке универсального правопреемства к новому лицу. Такая позиция представляется неправовой.
Подчеркиваем еще раз: алиментные обязательства возникли в результате вступления в силу судебного акта, установившего при жизни должника его обязанность по уплате алиментов. И именно это алиментное обязательство, которое он при жизни не успел исполнить, не входит в состав наследства, о чем прямо говорит нормативный правой акт, являющийся главным источником права романо-германской правовой системы.
Список литературы Наследование алиментных обязательств: прецедентное решение
- Добрачев Д. В. Денежные обязательства: тенденции развития доктрины и судебной практики. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 168 с.
- Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. 880 с.
- Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 2004. 350 с.
- Никифоров А. В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования//Наследственное право. 2013. № 4. С. 6-11.
- Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. 638 с.
- Хохлов В. А. Общие положения об обязательствах: учеб. пособие. М.: Статут, 2015. 288 с.