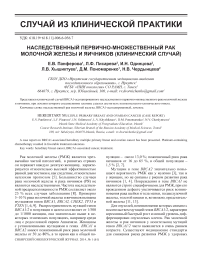Наследственный первично-множественный рак молочной железы и яичников (клинический случай)
Автор: Панферова Е.В., Писарева Любовь Филипповна, Одинцова Ирина Николаевна, Хышиктуев Л.В., Пономаренко Д.М., Чердынцева Надежда Викторовна
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Случай из клинической практики
Статья в выпуске: 1 (61), 2014 года.
Бесплатный доступ
Представлен клинический случай BRCA1-ассоциированного наследственного первично-множественного рака молочной железы и яичников, при лечении которого соединениями платины удается достигнуть положительного клинического ответа.
Наследственный рак молочной железы, brca1-ассоциированный, лечение
Короткий адрес: https://sciup.org/14056402
IDR: 14056402 | УДК: 618.19+618.11]-006.6-056.7
Текст научной статьи Наследственный первично-множественный рак молочной железы и яичников (клинический случай)
Рак молочной железы (РМЖ) является чрезвычайно частой патологией, в развитых странах он поражает каждую десятую женщину, характеризуется относительно высокой эффективностью ранней диагностики и, как следствие, относительно неплохим прогнозом [5]. Большинство случаев рака молочной железы и рака яичников (РЯ) не являются наследственными. Частота наследственной предрасположенности РМЖ составляет около 25 % всех случаев заболевания [8]. Примерно 5–10 % рака молочной железы и яичников вызваны мутациями генов BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53 и PTEN [1, 6, 9]. Распространенность мутаций генов BRCA1/2 в популяции в целом составляет от 1/500 до 1/1000 женщин, она значительно выше в некоторых этнических популяциях, например среди лиц с родословной евреев Ашкенази. Женщины с установленными мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 имеют пожизненный риск рака молочной железы от 50 до 80%, в то время как в общей по- СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2014. № 1 (61)
пуляции – около 13,0 %; пожизненный риск рака яичников от 16 до 65 %, в общей популяции – 1,5 % [2, 7].
Мутации в гене BRCA2 значительно повышают вероятность РМЖ как у мужчин [3], так и у женщин, но не связаны с риском развития рака яичников [1, 4]. Повреждения в гене BRCA1 не являются строго специфичными для РМЖ, при его врожденном дефекте увеличивается риск возникновения рака шейки и тела матки, поджелудочной железы, толстой кишки и, возможно, предстательной железы [11, 13].
Для опухолей, возникновение которых связано с носительством мутаций генов BRCA1/2, характерен агрессивный быстрый рост и низкий уровень дифференцировки опухолевых клеток. Рак молочной железы и рак яичников у носительниц мутаций генов BRCA1/2 часто выявляется в очень раннем возрасте. Существуют медицинские стандарты для снижения риска развития РМЖ у здоровых женщин с наследуемыми мутациями. Вопрос же об особенностях лечения BRCA1/2-ассоциированного РМЖ и РЯ обсуждается в научной литературе относительно недавно. Согласно рекомендациям ESMO необходимо отказаться от органосохраняющих операций, решение о хирургическом лечении должно основываться на тех же параметрах, как и при спорадическом раке, принимая во внимание более высокую степень риска двухстороннего рака и ипсилатерального рецидива [8].
В последние годы стали накапливаться убедительные данные, свидетельствующие об особом спектре химиочувствительности наследственных РМЖ. Предполагается, что BRCA1-ассоциированные РМЖ характеризуются резистентностью к «золотому стандарту» терапии РМЖ – препаратам из группы таксанов [10]. При этом они демонстрируют исключительно выраженную регрессию при лечении цисплатином, который широко используется для лечения других опухолей, но пока не входит в стандарты терапии карцином молочной железы [10, 12]. Помимо цисплатина, перспективным направлением лечения наследственных раков, ассоциированных с мутациями в гене BRCA1 , является применение ингибиторов поли(АДФ-рибоза-)полимеразы (PARP), проводятся клинические исследования, в которых ожидается увеличение продолжительности периода безрецидивной выживаемости. Однако пока не существует стандартов для режимов химиотерапии у пациенток с BRCA-ассоциированным раком молочной железы [8].
Таким образом, для достижения хороших результатов при лечении больных РМЖ необходимы более тщательный сбор анамнеза и проведение генетического обследования (на мутации BRCA1/2 ) при отягощенной наследственности, а также у лиц молодого возраста. Данное условие часто не соблюдается из-за отсутствия соответствующих стандартов.
Приводим клиническое наблюдение.
Больная А., 1974 года рождения, обратилась 06.07.09 в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутска с жалобами на узловое образование в правой молочной железе и боли ноющего характера внизу живота. Пациентка была в хорошем соматическом состоянии, без сопутствующей патологии и семейного онкоанамнеза. В анамнезе у больной отсутствие абортов и выкидышей, 2 родов путем кесарева сечения (обе дочери – здоровы), первые роды – в возрасте 24 лет, кесарево сечение выполнено по поводу полного предлежания плаценты; стимуляция овуляции и ЭКО – в 2002 г. В апреле 2008 г. пациентке выполнялась диагностическая лапароскопия по поводу болевого синдрома, установлен диагноз: Спаечная болезнь малого таза.
По результатам проведенного клиникоинструментального и лабораторного обследования у пациентки был выявлен ряд патологических изменений. Обнаружена опухоль в правой молочной железе, диаметром до 2 см, при гистологическом и иммуноморфологическом исследовании трукат-биоптата которой выявлен инфильтративный протоковый рак G2, с позитивной экспрессией рецепторов эстрогенов и отрицательной экспрессией рецепторов прогестерона. Исследование срезов для определения HER2 статуса оказалось неинформативным из-за недостаточного количества полученного опухолевого материала, повторная биопсия не выполнялась. По данным УЗИ выявлено увеличение правых подмышечных лимфатических узлов до 2 см, цитологическое исследование материала, полученного при тонкоигольной пункции под УЗИ наведением, подтвердило метастаз аденокарциномы. При УЗИ и КТ исследования органов брюшной полости обнаружен одиночный очаг в 8-м сегменте печени, размером до 22 мм, подозрительный в отношении метастаза. По данным трансабдоминального и интравагинального УЗИ органов малого таза выявлены опухоли яичников с обеих сторон, признаки канцероматоза малого таза и небольшой асцит. При цитологическом исследовании асцитической жидкости, полученной при пункции заднего свода, выявлены клетки аденокарциномы. Раздельное диагностическое выскабливание матки дополнительной информации не принесло. Результаты исследования опухолевых маркеров в сыворотке крови показали более чем 10-кратное увеличение СА125 (764 МЕ/мл), при практически нормальном показателе СА153 (28 МЕ/мл).
По результатам представленного исследования был установлен следующий диагноз: Первичномножественный синхронный рак: рак правой молочной железы IIA стадии (T1N1M0), рак яичников IIIC стадии (T3N0M0).
С июля 2009 г. начата химиотерапия (ХТ) в неоадъювантном режиме комбинацией препара- тов: цисплатин 75 мг/м2 и доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 нед. Было проведено 3 курса лечения с положительным эффектом в виде полной регрессии опухоли в молочной железе, частичной регрессии опухоли в яичниках со снижением уровня СА125 более чем в 4 раза (до 178 МЕ/мл). Через 4 нед после окончания последнего курса ХТ пациентка взята на операцию, 22.09.09 выполнена экстирпация матки с придатками и оментэктомия, при интраоперационной ревизии – придатки с обеих сторон визуально не изменены, брюшина малого таза с просовидными опухолевыми разрастаниями, большой сальник содержит очаговые уплотнения, взяты мазки-отпечатки с поверхности печени, брюшины среднего этажа брюшной полости и малого таза. При морфологическом исследовании: в цитологических мазках-отпечатках элементов опухоли не найдено, в гистологических препаратах в яичниках на фоне сохраненной ткани – очаги роста опухоли с формированием железисто-подобных структур, опухолевые клетки с выраженными дистрофическими изменениями. В большом сальнике опухолевые узлы аналогичного морфологического строения. Заключение: по гистологической структуре метастазы опухоли молочной железы в яичники и сальник, с лечебным патоморфозом II–III степени.
По результатам морфологического исследования операцонного материала диагноз первичномножественного синхронного рака был изменен на следующий: Диссеминированный рак молочной железы с метастазами в яичники и канцерома-тозом брюшины, по поводу чего была назначена химиотерапия комбинацией FAC (фторурацил 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфан 500 мг/м2), с 07.10.09 по 28.12.09 было выполнено 5 курсов ХТ по этой схеме. По данным контрольного УЗИ органов брюшной полости и малого таза, рентгенографии грудной клетки признаков прогрессирования опухоли не выявлено, пациентка переведена на гормонотерапию тамоксифеном. Уровень опухолевых маркеров в это время не исследовался.
В мае 2013 г. при УЗИ вновь выявлены признаки канцероматоза малого таза, повышение уровня опухолевых маркеров (СА153 – 33,2 МЕ/мл, СА125 – 240,8 МЕ/мл), состояние очага в печени по данным КТ сохранялось без динамики. В связи с прогрессированием заболевания пациентке назначена химиотерапия паклитакселом – 175 мг/м2 1 раз в
3 нед, с мая 2010 г. по 23.07.10 проведено 4 курса ХТ. На фоне терапии паклитакселом наблюдалось увеличение размеров опухоли, подтвержденное клиническими и инструментальными данными (УЗИ), а также повышение уровня маркеров (исследование крови от 04.08.10: СА153 – 50,2 МЕ/ мл; СА125 – 678 МЕ/мл).
В связи с прогрессированием заболевания пациентке была вновь произведена смена схемы химиотерапии и с 09.08.10 назначена комбинация цисплатина 75 мг/м2 в 1-й день и гемцитабина 1000 мг/м2 в 1-й и 8-й дни курса. Однако отмечена тяжелая переносимость химиотерапии с развитием тяжелых эметогенных осложнений, фебрильной нейтропении и эпизодов инфекции. Несмотря на превентивное назначение ГКСФ и другой профилактической и корректирующей терапии, после 2 курсов ХТ цисплатином и гемцитабином пациентка переведена на монотерапию карбоплатином AUC5.
Одновременно с проводимым лечением в феврале 2011 г. выполнен пересмотр и дополнительное исследование морфологических препаратов, что потребовало повторного изменения диагноза: Первично-множественный синхронный рак: рак правой молочной железы IIA стадии (T1N1M0) ER+, ER-; рак яичников T3сN0M0 стадии, рецидив.
Кроме того, 6.05.11 морфологический материал направлен на пересмотр и дополнительные исследования в Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина РАМН, где сделано следующее заключение: наследственные BRCA-1-ассоциированные первично-множественные злокачественные новообразования: рак молочной железы и рак яичников. Риск развития рака контрлатеральной молочной железы превышает 60 %, риск наследования герминальной мутации в следующем поколении – 50 %.
Химиотерапия на основе препаратов платины 1-го и 2-го поколений продолжена до явного прогрессирования заболевания, диагностированного в июне 2011 г., было выявлено увеличение метастазов в печени, поражение подвздошных лимфоузлов, увеличение канцероматозных перитониальных очагов. С июля 2011 г. по ноябрь 2011 г. назначена химиотерапия комбинацией оксалиплатина 100 мг/м2 в 1-й день и капецитабина 2000 мг/м2 в сутки, в 1–14-й дни с повторением курса каждые 3–4 нед. Таким образом, терапия на основе препаратов платины (цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин) по поводу прогрессирования рака яичников проведена с августа 2010 г. по ноябрь 2011 г., ее продолжительность составила 16 мес. Показатели СА125 в этот период колебались в пределах 534–696 МЕ/мл.
В течение 2012 г. проводились многочисленные попытки последовательного назначения различных химиопрепаратов, включая трабектидин, липосомальный доксорубицин, возобновление терапии препаратами платины с неуклонным прогрессированием рака яичников – увеличение размеров очагов в печени, подвздошных лимфоузлах, появление множественных опухолевых очагов по брюшине, между петлями кишечника. По мере увеличения опухолевой массы отмечалось повышение уровня СА125 (анализ от 22.02.13, СА125 – 2340 МЕ/мл). При этом не наблюдалось появления метастазов в кости, легкие, подмышечные, медиастинальные, над- и подключичные лимфатические узлы, это позволяет сделать вывод, что прогрессирования рака молочной железы не происходило. В декабре 2013 г. пациентка скончалась от прогрессирования рака яичников.
Таким образом, поражение яичников при раке молочной железы требует тщательной дифференциальной диагностики, в том числе и иммуноморфологической, между первичным РЯ и метастатическим поражением. Исследование опухолевых маркеров является ценным диагностическим методом для мониторирования эффективности терапии. Пациентке на первом этапе лечения была назначена неоадъювантная химиотерапия комбинацией цисплатина и доксорубицина. Данная комбинация не является стандартной как для рака молочной железы, так и для рака яичников, однако антрациклины являются препаратами выбора для лечения РМЖ, а цисплатин – для РЯ. В результате проведенные первые 3 курса химиотерапии привели к значительному клиническому эффекту в отношении обеих опухолей. Морфологическая ошибка после проведенного оперативного вмешательства привела к ошибочной смене диагноза и изменению тактики лечения. Из схемы химиотерапии были изъяты препараты платины и назначена стандартная для РМЖ терапия FAC.
Своевременная идентификация мутации BRCA1 позволила бы обосновать правильную лечебную тактику, поскольку платиносодержащие схемы ХТ являются оптимальными при лечении подобных опухолей. Представленный материал свидетельствует о настоятельной необходимости развития службы медико-генетического консультирования на территории Сибири, что позволит обеспечить адекватную специализированную помощь больным из онкологически отягощенных семей. При этом своевременное выявление здоровых женщин с мутациями в гене BRCA , ассоциированными с РМЖ/ РЯ, позволит пациенткам принять обоснованное решение в плане снижения онкологического риска (превентивные хирургические методы, нехирургические профилактические меры).