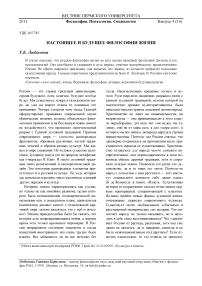Настоящее и будущее философии жизни
Автор: Любимова Т.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (16), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что русская философия жизни не есть калька немецкой философии Дильтея и его последователей. Она самобытна и укоренена в духе народа, отвечает историческому предназначению России. Не обретя широкого признания, она является тем зерном, из которого прорастет подлинное самосознание народа. Самыми известными представителями ее были К. Леонтьев, В. Розанов и русские космисты.
Космос, жизнь, вселенная, философия, история, возможное будущее религии
Короткий адрес: https://sciup.org/147202973
IDR: 147202973 | УДК: 165.745
Текст научной статьи Настоящее и будущее философии жизни
России — это страна грядущей цивилизации, страна будущего, если, конечно, будущее вообще будет. Мы существуем теперь в галилеевском мире, но уже на пороге отказа от основных его принципов. Четыре столетия тому назад Галилей сформулировал принципы современной науки (физические явления должны объясняться физическими причинами и на Вселенную извне ничего не воздействует), что произвело окончательный разрыв с Единой духовной традицией. Признак современного мира — смешение разнородных фрагментов, обрывков различных частей традиции, деталей и образов разных культур. Мы живем в мире смешения. Но человек существо целостное, духовное, разум его по природе метафизик, как утверждал И. Кант. И место духовной традиции занял религиозный и околорелигиозный дизайн. Это сочетание разнородных элементов присутствует и в русской культуре. По ходу истории мы испытали огромное число различных влияний других народов и культур.
Историю можно характеризовать как угодно, но только не как линейное развитие, целью которого было возникновение технократической цивилизации или, в социальном плане, капитализма (капитализм расцвел вместе с галилеевской картиной мира; можно надеяться, что с ней и исчезнет). Вполне правдоподобно было бы сказать, что история есть непрекращающаяся война, а мирное время есть только временное перемирие. В России непрерывное состояние опасности и следы нашествий иностранного ига очень трудно было изжить. Все забывается, но не все исчезает без следа. Насильственное крещение «огнем и мечом» Руси породило двоеверие; разрывом связи с единой духовной традицией, истоки которой на тысячелетия древнее иудеохристианства, была нанесена тяжелая травма душевной жизни народа. Христианство не знает ни национальности, ни патриотизма — оно принципиально в этом смысле неразборчиво, для него нет «ни иудея, ни эллина», оно не от мира сего, а для «мира сего», в котором мы все живем, интересы народа и страны первостепенны. Поэтому для России счастье, что двоеверие сохранялось на протяжении всего христианского периода ее существования. Христианство оставалось для народа чем-то слишком неопределенным; оно перекодировалось в свои исконные образы древней традиции, хотя и сохраняло чуждые имена. Понимало его разве что духовенство, да и то лишь его элита. Поэтому-то народ с легкостью с ним расстался — этот институт социального контроля себя давно изжил (Б. де Жувенель в книге «Власть. Естественная история ее возрастания» весьма точно назвал церковь корпорацией, соперничающей с властью). Должны прийти новые формы духовной жизни, отвечающие запросам современного человека. Существует нечто необъяснимое событиями и расстановкой эмпирических сил истории. Что позволяет народу не только выживать, но и находить в себе силы восстанавливаться? Что удерживает Россию от распада, рассеяния, хотя она уже давно не является, да и, наверное, никогда и не была мононациональным государством? Если ответить односложно, то это отнюдь не прошлое,
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 12-03-00095, «Культура и власть».
это — будущее, вера в которое может стать и основой патриотизма
Ф. Бродель различал племенной патриотизм — принадлежность к роду, следствие иллюзий тела; территориальный патриотизм — приверженность духу места, в нашем случае духу земли; социальный патриотизм — верность социальной организации, государству, городу. Но возможен и не такой частичный патриотизм, а более синтетичный и даже метафизичный. В нем проявилось бы понимание и осознание истории своей страны, а главное — понимание ее предназначения, желательного для нее будущего с точки зрения целостности всего человечества, вообще жизни на Земле. Возможно, что разгадывать загадку русской истории не стоит, пусть она таковой и останется. Лучше смотреть в будущее. Однако как же в него заглянуть? Предсказывать, прогнозировать или проектировать?
-
1. Предсказание сродни пророчеству. Существуют люди, одаренные способностью видеть фрагменты будущего. Как правило, в картинках, но без их внутренней смысловой связи. То есть в предсказаниях не получается картины стройного хода истории, наподобие шествия гегелевской абсолютной идеи. «Картинки» будущего суть лишь возможные варианты будущего, планы, которые могут реализоваться совместными усилиями человечества и этой информационной средой.
-
2. Прогнозирование пользуется научными методами, сущность которых в данном случае есть продление в неизвестное тех тенденций, которые наблюдаются в настоящем. Такое продление — экстраполяция — исходит всегда из локальных и ограниченных во времени данных, полученных к тому же с помощью весьма ограниченных средств. Наблюдаемые тенденции ограничены прежде всего масштабами обзора — мы различаем события в определенном диапазоне, подобно тому, как свет, звук и другие колебания среды мы различаем также в определенных диапазонах. Слишком «мелкие» события и слишком «крупные», т.е. происходящие на протяжении сотен или даже тысяч лет (длинные ритмы) для нас неразличимы. Мы, правда, можем их сконструировать, смоделировать. Следовательно, прогнозирование, ориентируясь на научные методы, должно исходить не только из очевидных тенденций, но и из всевозможных доступных для современного теоретического уровня моделей больших, растянутых во времени событий. Мы должны знать «начала и концы», обладать властью «связывать и развязывать», чтобы создать правдоподобный
-
3. Проектирование. Проект есть синтез знания и желания. Желательное будущее в процессе проектирования протискивается сквозь преграды, суть которых в ограниченности наших познаний и материальных возможностей воплощения предполагаемого желательного будущего. Проект заключает в себе моменты и предсказания, и прогнозирования. Идеи, касающиеся социальных отношений и будущего человечества, были и будут всегда проектами. Энергия их воплощения — это желания людей. Насколько долго может сохраняться воплощение того или иного проекта, зависит не только от свойств самого проекта, но и от некоего «энергетического импульса» при его запуске. Христианство продержалось две тысячи лет, потому что изначальный его импульс вобрал в себя «энергию» всего Юга, направленную против Севера (тогда — Рима); другие проекты длились и того меньше, например, царская Россия Романовых — 300 лет. Это, конечно, не единственная, но значительная причина; идеологическое оформление тоже важно, как и учет психологии людей, в особенности массовой.
прогноз. Эта принципиальная незавершенность, неопределенность исходной ситуации при экстраполяции тенденций есть причина ненадежности прогнозов.
История встроена в социальное тело — все наши представления, мысли, чувства, все институты культуры и социума подчинены тому синтезированному и спрессованному «блоку», наполненному «плодами» событий истории и тех практик, которые там бытовали и наслаивались друг на друга. Все схемы нашего сознания и поведения содержат в себе память истории. Любое изменение требует определенных усилий для осознания себя как истории, ведь в каждом человеке присутствует вся предшествующая история в сжатом до максимума виде, подобно тому, как в любом организме присутствует вся предшествующая история жизни. На этом темном основании формулируется какая-то своя философия жизни. Если осознания не происходит, то человек вынужден пользоваться чужой философией жизни, сложившейся из событий и практик другой истории. Понятно, что происходит дезориентация, возникает хаос сначала в головах, а затем и в социуме. Социальное тело становится слабым, не способным сопротивляться и даже угадывать вредные для себя воздействия и влияния. Именно это и произошло с русской культурой. Подражательность — зато в невероятных свершениях, превосходящих заимствованные образцы, — свойство нашей культуры. Пение с чужого голоса губит собственный голос. Поэтому осознание своей, русской, философии жизни жизненно необходимо.
История есть постольку, поскольку она рассказана. Если она не просто рассказана, но еще и понята, то тогда это философия истории. Когда история понимается как процесс, то это уже высший поэтический жанр: не просто рассказ, но драма. А если эта драма истории еще и осмысленна, то получается историософия. Существует, как предполагается, логика исторического процесса. Существует логика исторической науки. Следовательно, возможна и какая-то логика философии истории. Историософия сама есть смысл, сама есть логика, но только не извлекаемая из царства обыденности, а выходящая за пределы его плоскости в сферическое понимание «всего», всей полноты бытия. Понимание истории немыслимо без философии жизни, не заимствованной, а созревшей на своей собственной почве, философии своей жизни и своей истории.
Жизнь предстает для нас конечной, но она священна. Жизнь изменчива, ее формы меняются, как и все в подлунном мире. Чтобы сохранить свою форму жизни, каждое существо непрестанно заботится об условиях сохранения, безопасности и продления и ее. Казалось бы, что может быть ближе и понятнее нам, чем наша собственная жизнь и, по аналогии, жизнь сходных с нами существ, других людей? Но, как всегда, то, что ближе всего, остается менее всего и понятым. Будучи нам дана первой, изначально, к осознанию самой себя она приходит последней. Так в индивидуальной и частной жизни, так и в коллективной, социальной, т.е. в культуре как самосознании социума.
Русскому мироощущению вообще присуще то, что можно назвать космическим измерением, т.е. чувством включенности во вселенское «всё», особая всепричастность, которую Достоевский назвал всемирной отзывчивостью. Неизвестно, хорошо это или плохо, но это есть. Принцип космического мироощущения заключен в идее всеобъемлющего целого, всеединства. Направления космизма различаются по тому, как это единое целое истолковывается и какие ставятся цели для человека и человечества, исходя из этого понимания. Целое, всеобъемлющее определяет и самого себя, и весь свой состав, т.е. все множественное, индивидуальное существование. «Зло» индивидуальной ограниченности снимается через определение со стороны целого и единого. Человек, Бог, Вселенная в космизме не противостоят друг другу. Их противопоставление в религии связано с ее социальной ролью: быть идеологическим инструментом власти, средством управления через психическое воздействие и подавление отдельной, индивидуальной воли. Человек и есть бог Вселенной, но только повернутый в сторону времени, подобно тому, как бог повернут в сторону вечности. Человек есть «обернувшийся» к себе как миру бог; время человеческой жизни — это вечность для конкретного человека. С его рождением время начинает идти, сначала очень медленно, затем все быстрее и, наконец, с невероятным ускорением. В момент смерти все время жизни предстает как одномоментная картина всей жизни. Со смертью время останавливается, заканчивается. В этом смысле конкретный человек не противополагается «всему», а есть его аналог, микрокосм.
Космизм в современном мироощущении ушел на периферию, оснастился техническими атрибутами, стал материальным и довольно плоским. Но те, кого мы называем русскими космистами, были настроены более романтично, независимо от того, рассчитывали ли они на достижения науки или же на психические усилия человека, на расширение его сознания или даже на преображение. Эта тенденция — космизм, как проявление русской философии жизни — в интеллектуальной и духовной жизни нашей страны возникла несколько в стороне от доминирующих течений в русской философии, которые не были особенно самостоятельными и самобытными. Самостоятельным в полном смысле слова мог быть только непредвзятый взгляд на жизнь, в том числе на свою собственную и на жизнь своей страны. На повороте к XX в. и собственно философская мысль созрела для того, чтобы не ограничиваться удовольствиями школьной философии. Самостоятельная мысль встречала повсюду ограничения со стороны доминирующей идеологии. Только немногие избежали этих соблазнов, найдя свой, в определенной степени независимый, путь. Оригинальная философия жизни есть у К. Леонтьева, в его идее цветущей сложности. Явно эта тенденция видна и в размышлениях В.В. Розанова.
Ученая философия (она же школьная) все еще учится, правда, учителя теперь не Платон с Аристотелем, и не Кант с Гегелем и Шеллингом, как это было в XIX в., а лица совсем другого масштаба. В чем же мы можем обрести живой источник, который утолил бы жажду высшего (философского) знания? Мы должны обратить свой взгляд, умудренный знанием прошлого философии, на то, что представляется самым важным в реальной жизни. Но ведь мы не видим эту реальную жизнь, кругозор наш ограничивается не только каждодневными и преходящими требованиями, злобой дня, но и другими, более масштабными «злобами». Даже найдя в себе силы отвлечься от них, мы не можем определить, что же самое главное, в чем самая неотложная и ключевая проблема, которой стоит заниматься именно нашей, российской философии. На что она должно ответить? В чем смысл жизни? На этот вопрос ответа нет, по крайней мере, достаточно вразумительного.
Позитивистская установка в науке, господствовавшая в XIX в., никак не могла устроить лучших русских мыслителей. Например, Н.И. Пирогов, великий русский врач, замечательный и самостоятельный философ, отдав свою жизнь медицине как науке, во второй половине своей жизни, пережив духовный кризис, пришел к глубоким философским прозрениям. Характерный эпизод рассказан им о своем позитивистском периоде жизни и о том, как потрясло его осознание образа себя, тогдашнего состояния своей души. Он пишет о себе, каким он был во время учебы в Дерите: «Я был в то время безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно вскрикнул:
— Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека.
Но наука не восполняет всецело жизни человека; проходит юношеский пыл и мужеская зрелость, наступает другая пора жизни, и с нею — потребность сосредоточиваться все более и более и углубляться в самого себя; тогда воспоминания о причиненном насилии, муках, страданиях — другому живому существу начинает щемить невольно сердце.... В последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и так равнодушно. Это своего рода tnomento шоп.... Я был жестоким без нужды и без пользы; и воспоминание мое теперь отравляет еще более то, что, причинив тяжкие муки многим животным существам, я часто не достигал ничего другого, кроме отрицательного результата, т.е. не нашел того, чего искал» [4, с. 159].
Для Н.И. Пирогова была очевидна «непроизво-димость» понятия жизни не из чего другого. Оно подобно особого рода свету — световому эфиру, непохожему на вещество, но способному проникать через вещества. Вполне современная мысль!
Н.И. Пирогов размышлял о силе как вселенской мысли, без проявления ее в веществе, «без этой первобытной силы не было бы ни малейших вещественных частиц, и беспредельно разделенная материя исчезла бы из нашего чувственного мира... Убежденный, что сверх моей мозговой мысли существует еще другая, высшая мировая, я верю, что сила продолжала бы существовать и действовать в этой мировой мысли. Мысль же эта и действующая через нее мировая сила — это мировая жизнь... Жизнь — это осмысленная, безгранично действующая сила, управляющая всеми свойствами вещества (то есть его силами), стремясь притом непрерывно к достижению известной цели: осуществлению и поддержке бытия» [4, с. 32-33]. Замечательно также его понимание цельной истины и непроницаемой таинственности бытия [2, с. 192]. То, что цельная истина не фактична, — весьма точная мысль, здесь характерен разрыв с позитивистским ее пониманием: «Только тот факт, который есть, был и будет, был бы истиной, но такого мы не знаем; если же мы убеждаемся в необходимости или возможности нефактического существования того, что всегда было, есть и будет, то это убеждение и есть для нас истина, хотя, очевидно, не фактическая» [2, с. 190]. Наше «я» есть лишь индивидуализация мирового сознания, но поскольку мы сознаем себя (а это само сознание «цельно и нераздельно»), мы уже закрепляемся в духовной обособленности.
Другим ярким представителем русской философии жизни был К. Леонтьев. Эстетизм и аристократизм его восприятия мира позволили ему увидеть угрозу со стороны Запада, разрушавшего у себя все благородное, который навязывает и нам свои законы «земного всеблаженства, земной радикальной всепошлости». Отвращение Леонтьева к мещанской пошлости буржуазной жизни (она настигла-таки и Россию) Н. Бердяев выводит из неутолимой страсти к жизни, из тайной любви к сладости жизни: «Это была сильнейшая страсть его жизни, и она не сдерживалась никакими моральными преградами. ... Была у Леонтьева еще положительная страсть к красоте жизни, к таинственной ее прелести, быть может, была жажда полноты жизни. За своеобразным, дерзновенным и жестоким, притворно-холодным стилем его писаний чувствуется страстная, огненная натура, трагически-раздвоенная, пережившая тяжкий опыт гипнотической власти аскетического христианства» [1, с. 4]. Исходный принцип «почвы», конечно, отмечал склонность Леонтьева именно к стилю философствования, правда, почву он искал там, где ее быть не могло, в византинизме.
Еще более явно тенденция «философии жизни» видна в размышлениях В.В. Розанова. Это по-настоящему самобытная философия на русской почве. Розанов не стесняется быть собою. А человек, пока он себе верен, не тождественен сам себе. Тот, кто уже замер в какой угодно своей определенности, становится очень похожим на других. А Розанов не похож ни на кого. «Я бесформен», — говорит он о себе. Его суть уловить трудно, хотя пересказать идеи легко. Поэтому интересны не только темы и идеи, а и он сам как философ, мыслящий «от самого себя», самостоятельно и свободно. Конечно, это философия жизни, но ничуть не похожая на немецкую. Это философия русской жизни и жизни изнутри ее самой, «бесформенность», готовая принять любую форму. Это прежде всего философия рода, родового потока, но рода человеческого, метафизика которого отличает его от остального живого. Не пол сам по себе — наличное проявление родового потока, — а метафизика пола, в котором есть «капля метафизического существа». «Видит», «слушает», «живет» в нас метафизика, — запутанная вся в физику... Нет крупинки в нас, ногтя, волоса, капли крови, которые не имели бы в себе «духовного начала»... Человек есть только трансформация пола, модификация пола, и своего, и «универсального» [5, с. 229]. Вообще его можно понять, только приняв его метафизическую точку зрения. Метафизика для него не что-то после и вне физики, а весь непроявленный мир, потенциальный мир, уже существующий как бы вокруг и внутри нашего мира и в котором мы участвуем, и он участвует в нас. Род — метафизичен. Это перекликается с древним славянским (и русским, стало быть) представлением, в котором род был главным богом, а его женскими ипостасями были Лада и Леля. Природа — метафизична. Суть природы — пол. При-рода — прежде всего есть родовой поток, метафизика не вне этого потока, а внутри него. Родовой поток — это пространство господства женского начала мироздания, но не столь худосочно, как у «софиологов», а весьма полнокровного. У русских чувство рода было разрушено христианством, которое предназначено для всех без различия. Метафизика рода, видимо, из-за свойственного большинству пугливого лицемерия и внушенного христианством фарисейства в этом вопросе осталась недооцененной в нашей философии, точнее, неправильно прочитанной. Это, в сущности, вариант философии жизни и ее метафизики, и так к ней и надо относиться.
Отчетливо выделяются три сферы жизненных интересов Розанова, на которых произрастает его прихотливое «древо познания»: пол, социум, религия. И все в метафизической, вселенской перспективе. Пол — это и есть центр жизни, движущая сила родового потока. Природа его духовная, божественная и проявляется в любви, которая тожественна истине: «Гаснет любовь — и гаснет истина. Поэтому “истинствовать на земле” значит постоянно и истинно любить» [6, с. 79]. Но родовой поток, хотя он и есть основа жизни, не исчерпывает всех ее граней. Другая тема философии жизни Розанова — организация совместной жизни людей внешним образом, т.е. социум. Государство, наука, искусство, право и прочие социальные институты — это те внешние формы, в которых движется родовой поток. Государство — это часовой, охраняющий нас, стоящий рядом с потоком жизни. Оно не должно брать на себя не свойственные ему обязательства (например, творить, заниматься наукой и философией, философ-правитель — это катастрофа, вопреки Платону). В метафизическом движении родового потока каждый человек не только его часть, но одновременно и его целое, в нем род представлен как в одном зерне весь будущий лес, и предшествующий тоже. Розанов, ставя человека в его целостности (единства духа и плоти) в центр всего, хочет, чтобы социум не противоречил метафизике родового потока. А это значит, что все социальные отношения, построенные на господстве-подчинении, на диалектике раба и господина, пронизанные этой диалектикой, преобразились бы, обрели гармонию. Розанов надеялся на религию любви, а не на религию закона.
Самая тесная форма, ближе всего прилегающая к родовому потоку и облекающая его, — это семья, «животный союз», но с «мистическим задатком» [7, с. 222]. Однако уже тогда «семья опустела и запустела; она немножко развратилась, она во всяком случае стала бессодержательна и как бы даже несколько глупа» [7, с. 220]. Она стала «праздна», «перестала согреваться». «Все покачнулось неуловимо... в сторону ложного». Другие формы, все более и более подавляющие, насильственные, с ходом истории вообще становятся в противоестественные отношения к родовому потоку, порождая противоречия, завихрения, катастрофы. «Во всем есть две стороны: внешняя и механическая, внутренняя и субъективная» [6, с. 222]. Внешняя все более нагнетается и доминирует. Непостижим ход этой истории, не поддается рациональному объяснению.
Но человек не исчерпан только родом и социумом. Он — живая душа, жилище которой не привычный физический мир, а духовный, неощутимый и непостижимый. Вступая в жизнь, каждый человек встречает не одухотворенный мир как таковой, а какую-то данную ему как бы a priori религию, с ее представлениями, догмами, внедряемыми в сознание идеями, прививаемыми чувствами и переживаниями. Религия нас встречает как некая данность. Это третий поток, относительно самостоятельный (хотя религия как организация, как институт примыкает и неотделима от социума), который посягает уже не на животное-человека, а на человека-духа, на жизнь его души. Пересекаясь и смешиваясь с двумя другими потоками, она создает еще больше противоречий, уже совсем невыносимых, и не просто завихрения, а настоящие цунами порождаются этими взаимодействиями (например, войны).
Розанов отнюдь не безмятежно-спокойный религиозный мыслитель. Он сам себя относит к тем, кто допрашивает христианство как религию смерти. Допрашивал он его еще в «Легенде о Великом Инквизиторе», тонкой аналитикой развернув и выставив наружу его неразрешимые внутренние противоречия: «В столь мощном виде, как здесь, диалектика никогда не направлялась против религии. .. Можно сказать, что здесь восстает на Бога божеское же в человеке: именно чувство в нем справедливости и сознание им своего достоинства... Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения, составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем» [6, с. 112]. Христианская религия претендует ответить на все запросы души, вне зависимости от времени, места, народа и языка. Однако ход истории (разрушение «христианского мира») и превращение религии в театр, в музей, в формализм, даже в государственное дело, в обря-доверие обличает какую-то недостаточность этого «претендента» на окончательную истину. Массы бездумно и беспроблемно подчиняются все еще идущим со стороны христианства внушениям. Но мир каждого из живущих на земле народов раскрылся перед другими и перед Вселенной, и стало очевидно, что данная нам как бы a priori религия не есть единственная на свете, мало того, она во многом очень ограниченна. Другие учения иначе знают Бога и по-другому относятся к человеку и к миру. Выбирать же на основании «красоты службы», как якобы наши предки выбрали греческое православие, кажется теперь довольно нелепым и легкомысленным. Единственность и истинность усвоенной религии ставится под сомнения, а сомнение — сильная угроза для веры. Поэтому естественно размышлять о природе религии как таковой. Розанов об этом и размышляет, но не в русле науки о религии, или богословия, или философии религии. Нет. У него в этом вопросе «особенная стать». Он надеется найти в православии, хочет, чтобы в нем было все, и истина, и путь, и жизнь. Но встает перед ним не дух жизни и истины, а какая-то тень, не очень доброжелательная, даже жестокая, убийственная.
«Дух имеет пол», — говоря так, Розанов утверждает мир жизненного духа. Христианство противостоит полу и тем самым убивает жизнь: «“Полюбуйтесь, помечтайте, но — и довольно”. Это — монашеская любовь... Мечтательное начало с тем вместе есть и жестокое; ведь сентиментализм Руссо родил фурий террора, как был сентиментален и Робеспьер... В мечтах родится идеал; а идеал всегда бывает и особенно ощущает себя оскорбленным действительностью. Идеал и “луна” не знают компромиссов» [5, с. 186]. Луна, текучий пол, духовная содомия, и сопутствующий ей аскетизм по отношению к миру жизненного духа — вот истоки культуры, западной, христианской, по крайней мере: «О, духовносодомская цивилизация: и она смеет свой пафос возводить в закон! в “нравственное правило”! в “нравственность и святость”, наконец!» [5, с. 264]. Многих такие сентенции шокируют, хотя современный человек уже не удивляется ничему. Однако совесть — философская совесть, т.е. восприимчивость, чуткость к истине — заставляет нас не отталкивать те странные, но трудно опровержимые неочевидности, которые предстают перед нами в каждой строке Розанова. Они есть и в прозрениях относительно родства христианства, свойственного ему аскетизма с «луной», текучим полом, относительно враждебности его роду, родовому потоку. И будучи один раз нам показаны, эти неочевидности обретают довольно вескую степень убедительности. Уже невозможно от них просто отмахнуться, отвернуться и забыть. За «сладостью» Евангелия таится страшное и отталкивающее: «И вот пришло Евангелие. ... В мир явилась Божественная Мудрость, научившая людей жить для смерти и умереть для жизни» [5, с. 195]. Христианство «попыталось ... потрясти очаги рождения, разрушить недра мира, как бы проколоть иглой мировой зародыш, зародышевое начало мира, зародышевую сущность мира» [5, с. 226]. Конец мира — это цель, зов христианства, пожелание, его «черный идеал».
Розанов видит в этом какое-то мировое, вселенское извращение, «поворот земной оси на другой градус», когда «метафизически перерезаны вертикальные связи с детьми и родителями». Из трех основных энергетических потоков, определяющих и созидающих человека и его жизнь, судьбу (родового, социального и вселенского, космического), ни одного не остается не поврежденного. То, что иногда называют космическим сознанием, вселенским разумом, т.е. понимание включенности человека в процессы, происходящие во Вселенной не где-то в бесконечной удаленности от нас, а всегда, везде, здесь, со всеми нами, такое осознание запрещается христианской религией, для которой «мир во зле лежит». Он и будет в нем лежать, пока мы в это верим. Получается, что не только по отношению к родовому потоку христианство сыграло деструктивную роль, о чем так выразительно рассказал В.В. Розанов. Оно закрыло доступ и к всеобъемлющему пониманию и постижению Вселенной, а следовательно, и человека как планетарно-космического существа. Книга победила жизнь, и Розанов, будучи писателем и более никем, восстает, наконец, против Книги: «В нашей цивилизации старых дев и беспутных холостяков “благочестиво есть” бросить в огонь хоть одну из этих старопечатных книжонок, в кожаных переплетах и с медными застежками» [5, с. 192]. И даже против самого своего призвания: «И литература сделалась мне противна» [8, с. 401]. Философ жизни победил в нем литератора.
Пол есть энергия, понять его метафизику — значит найти возможность восстановить гармонию не только индивидуальной жизни, но и социальной; обрести гармонию с природой, Вселенной. Это в наше время становится многим уже ясно: «Есть сила разрушительная, а есть сила созидающая. Есть сила ненависти, а есть сила любви. Любовь, доверие, красота, искренность, правдивость — все это женские качества; они много превосходят любые мужские качества. Но в прошлом обществе доминировал мужчина, и именно мужские качества ценились превыше всего. Если речь идет о войне, то, естественно, и любовь, и красота, и эстетический вкус там будут бесполезны. На войне нужно иметь сердце крепче камня. На войне нужна ненависть, гнев и безумная страсть к разрушению. За три тысячи лет на Земле было пять тысяч войн. Да, это тоже сила, но такая сила недостойна человека; она досталась нам в наследство от животного мира. Она принадлежит прошлому, которое уже позади, а женские качества принадлежат будущему, которое еще впереди. То, за что мужчине пришлось сражаться, природа дала женщине как подарок... Я хотел бы, чтобы весь мир наполнился женскими качествами. Только тогда исчезнут войны. Только тогда исчезнет брак, исчезнут нации. Только тогда мы сможем жить в одном мире: мире любви, мира, тишины и красоты» [5, с. 192]. Мы живем в андроцентрическом мире, так его назвал известный социолог Пьер Бурдьё в своей замечательной книге «Мужское господство» [9]. Все современные религии патрицентрические. Подавление женской энергии и свободы, страх, насилие над индивидуальной волей, всевозможные кары и угрозы — все это характерные признаки патрицен-трической религии. Мир изменился, он уже не таков, каким был при возникновении так называемых мировых религий. А сами эти религии, реально ли они те же самые живые организмы со всеми их благотворными и жестокими сторонами, какими они были на ранних стадиях своего возникновения?
Они только оболочки, оставшиеся от прежних организмов. Некоторые из них агрессивные, и агрессивны они потому, что они суть оболочки. Роль религии была в организации «картины мира» для большинства. В глубине этой «картины» оставалось нечто эзотерическое, тайное, но не потому, что это специально скрывалось, а потому, что знание об этом «тайном» и соответствующее этому знанию состояние становится доступным только при достижении человеком высокого уровня, называемого посвящением. Массовая, общедоступная религия занята обеспечением интеграции социума, т.е. вполне экзотерической деятельностью, однако без внутреннего эзотерического ядра нет духовной жизни. Целостность и единство социума в современных условиях существующие религии уже не могут обеспечить. При отсутствии эзотерического, метафизического ядра (отнюдь не совпадающего с религиозной доктриной и догмой) в большей степени требуется внешнее насилие, вплоть до репрессий, что, конечно, может обернуться очередной катастрофой.
Роль, которую успешно играла религия в Средние века, теперь играет наука. Она для современного человека истина, путь и жизнь: с позиций сциентизма научное знание принимается за образец достоверности, истинности; считается, что наука откроет нам путь к избавлению от страданий и катастроф; она обеспечит нам безопас- ную и здоровую жизнь. Однако очевидно, что в современных условиях наука слишком часто обслуживает войну, смерть, а не жизнь, не гармонию, не совершенствование человека и вообще не будущее человечества.
Человеку предстоит осознать, что его жизнь есть часть жизни планеты Земля, которая в свою очередь есть часть вселенской жизни. Религия, если она действительно есть связь, должна непосредственно соединять средоточие жизни каждого человека со всем живым, с живой Землей и Вселенной. И это уже не религия слепой веры, основанной на чьих-то словах, сказанных или написанных в книге, это уже живая причастность к всеобъемлющей жизни Вселенной. Такая всепроникающая единая связь всего со всем, т.е. вселенская жизнь, одним из центров которой осознает себя человек, и может стать религией вселенской любви будущего человечества.
Религия человечества, истории и культуры без метафизики и трансценденции останется последней страницей цивилизации человека, построенной на принципе доминирования мужского начала. Разделение двух начал само по себе метафизично, а их противостояние стало основой культуры. Подавление женской энергии было первым шагом отрешения женщин от активной социальной жизни. Субъектом, т.е. собственно человеком, считался только тот, кто был свободен и владел оружием, женщина постепенно становилась «домашним животным», безропотным существом, лишенным свободной воли, да и вообще любого проявления воли, самостоятельной мысли и чувства. Однако исправить положение социальными, политическими или культурными средствами, на наш взгляд, невозможно. Политики, священники и все прочие представители доминирующих и подавляющих «субъектов» заинтересованы в сохранении этого низменного status quo. Всяческими лукавыми средствами они заставляют человека подчиняться себе, своим интересам, вовсе не являющимся его подлинными интересами: «Если люди начнут подходить к реальности без чужих подсказок, без чужого указания на то, что есть добро и что есть зло, без чужого путеводителя, которому нужно следовать, то миллионам людей откроется истина, ибо наше сердцебиение — это сердцебиение Вселенной, наша жизнь— это часть вселенской жизни. Мы не пришельцы, мы не прибыли откуда-то издалека, мы существуем внутри Вселенной. Мы — ее часть, ее важная часть. Нам нужно погрузиться в тишину, чтобы услышать то, чего не выразить словами: музыку Вселенной, бесконечную радость Вселенной, вечное празднование Вселенной. Как только она начнет проникать в наши сердца, произойдет трансформация» [3, с. 157-158].
Россия — страна, где эта трансформация, будем надеяться, произойдет. И именно потому, что русская философия жизни, проблески которой мы видим в мыслях самых интересных наших философов, существовавших вне доминирующей школьной философии, есть отражение этой бесконечной радости Вселенной, пусть не броской, но не списанной с посторонних образцов.
Принцип, который лег в основу развития человеческой цивилизации, а именно принцип господства и подчинения, к нашему времени дошел до предельно явного выражения, всеобщего недоверия и настороженности, веры в военную силу, до совершенно реальной угрозы всеобщего уничтожения. Конечно, наивно полагать, что человечество может осознать глубинную причину угрозы. Когда метафизика вновь вступит в свои права, равновесие двух духовных принципов должно стать основой цивилизации без господства и насилия; это кажется невероятным, даже невозможным, но невозможное-необходимое как раз и образует реальность будущего. Разумеется, самые проницательные мыслители понимали необходимость возрождения этого равновесия. «Вечная женственность» Гёте, «софийность» Вл. Соловьева, С. Булгакова и даже весь пафос В. Розанова в защиту жизни, не говоря уже о теософии, — только некоторые, самые яркие точки в бескрайнем поле философской мысли, идущей в этом направлении. Но все-таки надо сказать, что представление о женском начале, как правило, есть только негативный образ существующей культуры. Пока образ этого начала остается скрытым, настоящей тайной. Существующая культура не может проявить этого образа. Акцент делается на биологическом, психологическом, в лучшем случае нравственном, начале. Женское начало как духовное есть Дух жизни, не противополагающееся материальному или биологическому, «пло-тяному» («Ева» переводится как «жизнь», Ева-изначальная равнозначима Адаму-Кадмону, т.е. изначальному Адаму). Но возрождения Духа жизни не может произойти только на социальном, культурном, душевном или биологическом уровнях. Это метафизическая проблема. Возрождение духа жизни послужит восстановлению универсальных принципов традиции, удерживавших человечество на протяжении всей истории от его окончательного разрушения, возрождению метафизики традиции.
Список литературы Настоящее и будущее философии жизни
- Бердяев Н. К. Леонтьев -философ реакционной романтики//Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М.: ЭКСМО, 2007. 896 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Прометей, 1991. Т. 1, ч. 2. 221 с.
- Ошо. О мужчинах. М.: София, 2012. 256 с.
- Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. М.: Кн. клуб «Книговек»: Северо-Запад, 2010. 608 с.
- Розанов В.В. Люди лунного света//Розанов В.В.Сочинения. М.: Дружба народов, 1990. 298 с.
- Розанов В.В. Несовместимые контрасты жизни. М.: Искусство, 1990. 605 с.
- Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Просвещение, 1990. 624 с.
- Розанов В.В. Уединенное//Розанов В.В. Сборник. М.: ЭКСМО, 2006. 960 с.
- Bourdieu P. La domination masculine. Seuil, 1998. 184 p.