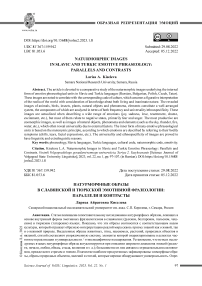Натурморфные образы в славянской и тюркской эмотивной фразеологии: параллели и контрасты
Автор: Киселева Лариса Айратовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Образная репрезентация эмоций
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному исследованию натурморфных образов, лежащих в основе внутренней формы эмотивных фразеологизмов в славянских (русском, болгарском, польском, чешском) и тюркском (татарском) языках. Показано, что эти образы соотносятся с соответствующим кодом культуры, который отражает образную интерпретацию реалий мира сквозь призму знаний как о живой, так и о неживой природе. Выделенные образы животных, птиц, насекомых, растений, природных объектов и явлений, стихий составляют упорядоченную систему, элементы которой охарактеризованы в аспектах частотности реализации и универсальности / этноспецифичности содержания. Установлено, что во всех исследуемых языках натурморфные образы актуализируются при описании широкого диапазона эмоций (радости, печали, любви, обиды, стыда, волнения и т. д.); большинство из них связано с отрицательными состояниями, прежде всего страхом и гневом. В качестве наиболее продуктивных зафиксированы зооморфные образы, образы природных объектов, явлений и стихий, которые нередко обнаруживают универсальность. Определено, что в основе внутренней формы многих эмотивных фразеологизмов лежит метонимический принцип, в соответствии с которым эмоции описываются посредством отсылки к их телесным симптомам (озноб, слезы, мимические выражения и т. д.). Причины универсальности / этноспецифичности образов имеют языковой и неязыковой характер.
Фразеология, славянские языки, тюркские языки, культурный код, натурморфный код, эмотивность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142314
IDR: 149142314 | УДК: 81’367:159.942 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.1.8
Текст научной статьи Натурморфные образы в славянской и тюркской эмотивной фразеологии: параллели и контрасты
«L^ 5д
DOI:
Важнейшей задачей контрастивных исследований в области фразеологии является определение универсальных и этноспецифи-ческих особенностей образной семантики устойчивых оборотов, прежде всего установление сходств и различий их внутренней формы. Именно образность представляет собой один из главных критериев для сопоставления фразеологических систем разных языков, поскольку она присуща большинству устойчивых оборотов и формирует ядро их экспрессивного значения (см., например: [Мокиенко, 1980, с. 123]). Сопоставительное исследование образной основы фразеологических единиц (далее – ФЕ) в двух и более языках предполагает установление закономерностей отражения тех или иных кодов культуры (антропоморфного, предметного, числового и т. д.) во внутренней форме данных оборотов. Такой анализ, как мы уже отмечали, позволяет не только выявить наиболее значимые реалии культуры определенного этноса, но и охарактеризовать особенности их языковой интерпретации сквозь призму доминирующих образов, установить степень их универсальности / этноспецифичности в разных языках, описать закономерности трансляции образно-коннотативной семантики ФЕ в иноязычную / инокультурную среду и т. д. [Киселева, 2018]. На наш взгляд, доминирующие образы, лежащие в основе внутренней формы ФЕ того или иного языка / языков, составляют строгую, упорядоченную систему, за которой стоят стереотипы, связанные с осмыслением тех или иных предметов и явлений мира носителями разных языков. Эти стереотипы регулярно воспроизводятся в образной семантике ряда ФЕ, за счет чего приобретают статус символов, определенных «ключей» для декодирования имплицитной неязыковой информации. Их углубленный анализ возможен также в проекции на фразеологическую картину мира, для которой характерно доминирование образноэкспрессивного компонента, обусловливающего номинацию реалий путем отсылки к тем жизненным ситуациям, установкам и т. д., которые имеют особую значимость для представителей того или иного этноса. Именно поэтому в рамках сопоставительной лингвистики востребованы исследования базовых фразеологических концептов, наиболее ярко отражающих специфику мировосприятия носителей разных языков, их ценностные приоритеты, психологические установки и т. д. Фразеологический концепт является «минимальной единицей, возникающей в процессе формирования концептуального содержания» [Золотых, 2008, с. 19]. В рамках сопоставительного подхода возникает возможность по-новому осмыслить те проблемы, которые ранее ставились традиционной лингвистикой. Одна из таких проблем – определение степени семантической эквивалентности ФЕ, обозначающих аналогичные реалии в разных языках. В частности, с позиций сопоставительной лингвокультурологии исследователи рассматривают эквивалентность ФЕ на уровне не только денотативной, но и образно-коннотативной семантики, в связи с чем обращают особое внимание на совпадения и различия внутренней формы ФЕ в разных языках, прежде всего генетически и типологически далеких.
Материал и методы исследования
Данная работа посвящена анализу эмо-тивных фразеологических единиц славянских (русского, болгарского, польского, чешского) и тюркского (татарского) языков, отражающих во внутренней форме натурморфный код куль- туры. Фактический материал извлечен нами методом сплошной выборки из фразеологических словарей указанных языков, по мере необходимости привлекались также данные толковых словарей (см. список словарей). Всего нами проанализировано около 200 единиц (примерно по 40 единиц в каждом из указанных языков). Обращение к материалу названных славянских и тюркского языков представляет большой интерес по той причине, что они, с одной стороны, имеют определенные типологические различия, а с другой – обнаруживают генетические либо функциональные связи (как, например, русский и татарский языки, носители которых на протяжении многих столетий проживают на одной территории и активно контактируют друг с другом).
При анализе фактического материала нами использовался ряд взаимосвязанных методов: 1) методы контрастивной лингвистики (в том числе установление межъязыковых фразеологических соответствий); 2) методы лингвистической семантики (установление степени семантической эквивалентности анализируемых единиц); 3) методы сопоставительной лингвокультурологии (выявление сходств и различий натурморфных образов, связанных с соответствующим кодом культуры).
Результаты и обсуждение
Поскольку внутренняя форма анализируемых эмотивных фразеологизмов в славянских и тюркском языках основана на параллелях с окружающим природным миром, то это, вероятно, указывает на возникновение данных единиц в ранние периоды исторического развития. Как считают исследователи, для мифопоэтического мировоззрения космологического периода (дородовой эпохи) характерно отсутствие четких границ между субъектом и объектом, человеком и природой, в какой-то мере даже отождествление того и другого (см., например: [Топоров, 1982, с. 13]). По тонкому наблюдению Г. и Г.А. Франкфортов, «для современного человека мир явлений есть в первую очередь “Оно”, для древнего – а также для примитивного человека – он есть “Ты”. <...> Это не означает (как часто думают), что первобытный человек для объяснения природных явлений наделяет неодушевленный мир человеческими характеристиками. Для первобытного человека неодушевленного мира попросту не существует» (цит. по: [Новик, 1994, с. 114–115]). В этом утверждении содержатся важные для лингвиста смыслы, благодаря которым мы отчасти можем объяснить образные параллели в области фразеологии разных языков. В наибольшей степени образные ресурсы языка оказываются задействованы при описании «внутреннего человека», особенно его эмоциональной сферы, что представляется вполне закономерным: чувства и переживания отличаются максимальной степенью субъективности, которая затрудняет их адекватную регистрацию и описание. Язык же «конструирует» внутренний мир человека за счет определенных образных моделей, многие из которых являются регулярными и продуктивными как в одном, так и в нескольких языках. Подтвердим данные положения с опорой на материал названных выше языков.
Так, яркая внутренняя форма отличает ФЕ, которые интерпретируют эмоциональные явления путем их ассоциации со свойствами и признаками различных реалий природного (шире – органического) мира (буквальный перевод с болгарского, польского, чешского и татарского наш. – Л. К. ):
-
а) животных: рус. дуться / надуться как ( будто , словно , точно ) мышь на крупу ‘прост. ирон. кто-л. очень сильно обижен и выражает недовольство своим видом’, сердце дрожит ( трепещет ) как ( будто , словно , точно ) овечий ( заячий ) хвост ‘прост. шутл. кто-л. испытывает страх, робость и т. п.’, поджать хвост ‘прост. презр. испугавшись последствий своих действий, поступков, становиться осмотрительным, осторожным’, кошки скребут на душе у кого ‘разг. экспрес. кому-л. очень грустно, тоскливо, тревожно’, смотреть волком ( зверем ) ‘разг. предосуд. выказывать своим неприветливым видом неприязнь, враждебное, недружелюбное отношение к кому-либо’, телячий восторг ‘ирон. слишком бурный или беспричинный, бессмысленный восторг’, как собака палку ‘прост. ирон. очень сильно (не любить, не хотеть)’, краснеть / покраснеть как рак ‘о человеке, у которого от сильного волнения, смущения и т. п. прилила к лицу кровь’ и др.; болг. глътвам ( лапвам ) въдицата ‘влюбляться по уши в кого-л.’ (букв. ‘проглатывать удочку’), заешки сърце ‘заячья душа’ (букв. ‘заячье сердце’), животински страх ‘животный страх’ и др.; пол. nudzić się jak mops ‘разг. невыносимо (ужасно) скучать’ (букв. ‘скучать как мопс’), drzeć koty ‘быть не в ладах, жить как кошка с собакой’ (букв. ‘драть кошек (котов)’), stanąć komuś kością ( ością ) w gardle ‘стать (встать) поперек горла кому-л . ’ (букв. ‘стать костью (рыбной) в горле у кого-л.’) и
- др.; чеш. žere ho to ‘это терзает его’ (букв. ‘это [животное] ест его’), nasaditi (komu) hada ‘причинить кому-л. беспокойство; растревожить кого-л.’ (букв. ‘подложить кому-л. змею’), býti (s kým) na štíru ‘быть с кем-л. на ножах’ (букв. ‘быть с кем-л. на скорпионе’), býti jako pijavka ‘пристать как банный лист’ (букв. ‘быть как пиявка’) и др.; тат. бу ре бу-лып уласац да ‘хоть волком вой’, куян йОр9к ( ан) ‘трус’ (букв. ‘заячье сердце (душа)’), койрыкны бот арасына кыстыру ‘поджать хвост’ (букв. ‘зажать хвост между ногами’), атка менг 9 нд 9 й булу ‘прыгать от радости’ (букв. ‘как будто на лошадь залезть’) и др.;
-
б) птиц: рус. дразнить гусей ‘ирон. вызывать гнев, раздражать’, летать на крыльях ‘экспрес. быть в приподнятом, восторженном настроении’ и др.; пол. piać z radości ( ze szczęścia, z zachwytu ) ‘шумно восторгаться (радоваться)’ (букв. ‘петь [как петух] от радости (счастья, восторга)’), nadął się jak sowa ‘надулся как мышь на крупу’ (букв. ‘надулся как сова’), złościć się jak indyk ‘злиться’ (букв. ‘злиться как индюк’), rozwścieczony kogut ( indyk ) ‘разъяренный петух (индюк)’ и др.; чеш . být červený jako krocan ‘злиться’ (букв. ‘красный как индюк’), vztekat se jako krocan ‘злиться’ (букв. ‘злиться как индюк’), je červený jako kohout ‘покраснеть от злости’ (букв. ‘красный как петух’) и др.; тат. канатланып й р ‘ходить окрыленным, воодушевленным’, канатланып киту ‘неожиданно окрылиться, воодушевиться’, алтын кош тоткан кебек булу ‘сиять от счастья’ (букв. ‘словно поймать золотую птицу’) и др.;
-
в) насекомых: рус. мураши ( мурашки ) бегают / побежали / забегали ( ползут / ползают / поползли ) по коже ( по спине , по телу ) ‘разг. ощущается озноб от сильного страха, волнения, ужаса’, ровно ( как , будто , словно , точно ) муху проглотил ‘прост. о том, кто недоволен, имеет расстроенный, кислый вид’, мухи дохнут ( мрут ) ‘прост. презрит. невыносимо скучно’; болг. досадна муха ‘разг. назойливый человек’ (букв. ‘досадная муха’), ходя като муха без глава ‘ходить как в воду опущенный’ (букв. ‘ходить как муха без головы’); тат. аркадан кырмыскалар ( тараканнар ) йeри ‘мурашки бегают по спине’ (букв. ‘мурашки (тараканы) бегают по спине’) и т. д.;
-
г) растений: рус. хуже горькой редьки ‘разг. презр. 1. Что-л. или кто-л. невыносимы, нетерпимы. 2. Невыносимо, очень сильно (надоесть)’, дрожать как <осиновый> лист ‘разг. экспрес. испытывать чувство страха (ощущая мелкую дрожь в теле)’, хоть трава не расти ‘разг. экспрес. кто-л. совершенно равнодушен, безразличен к кому-л. или к чему-л.’ и др.; болг. чувствувам се в не-брано лозе ‘разг. чувствовать себя не в своей тарелке’ (букв. ‘чувствовать себя в неубранном винограднике’), седя като на тръни ‘сидеть как на иголках (угольях)’ (букв. ‘сидеть как на колючках (шипах)’), вършея тръне на главата на някого ‘изводить, донимать кого-л.’ (букв. ‘молотить колючки (шипы) на голове у кого-л.’); пол. przyczepić się ( uczepić się ) jak rzep ( do ) psiego ogona ‘пристать как банный лист’ (букв. ‘прицепиться (уцепиться) как репей к собачьему хвосту’), mieć z kimś na pieńku ‘быть с кем-л. не в ладах, иметь зуб на кого-л.’ (букв. ‘быть с кем-л. на пеньке’); чеш. to je mile jako osina v oku ‘ирон. это приятно, как заноза в глазу’ (букв. ‘это приятно, как ость в глазу’), mnohý hořký lupínek snísti ‘хлебнуть горя’ (букв. ‘съесть горький листок’), kousnouti do kyselého jablka ‘разг. испытать неприятность; начать неприятное дело’ (букв. ‘откусить кислое яблоко’), třásti se jako osika ‘дрожать как осиновый лист’; тат. киндер маен сыгу ‘лить слезы’ (букв. ‘выжимать конопляное масло’) и др.;
-
д) природных объектов: рус. душа на небе у кого ‘разг. экспрес. кто-л. испытывает чувство величайшей радости’, на седьмом небе ‘разг. экспрес. безгранично счастлив, глубоко удовлетворен’, чернее тучи кто ‘разг. экспрес. кто-л. очень мрачен, угрюм’, гора <лежит> на душе у кого ‘разг. экспрес. о тягостном душевном состоянии, о тяжелых заботах’, гора с плеч ( свалилась ) у кого ‘разг. экспрес. наступило полное облегчение после избавления от забот, тревог, тяжелых обязанностей’, камень с души свалился у кого ‘разг. экспрес. кто-л. почувствовал большое душевное облегчение, избавившись от чего-л. гнетущего, тягостного’, сквозь землю провалиться ‘разг. иметь сильное желание исчезнуть, скрыться куда-либо (от стыда, смущения)’ и др.; болг. на седмото небе ‘на седь-
- мом небе’, планина падна от гърба ми ‘у меня гора с плеч свалилась’ (букв. ‘у меня гора со спины свалилась’), потъна вдън зе-мята ‘хочется сквозь землю провалиться (от стыда)’ (букв. ‘утонуть вглубь земли’) и др.; пол. być w siódmym niebie ‘быть (чувствовать себя) на седьмом небе’ (букв. ‘быть на седьмом небе’) и др.; тат. иде кат кY кк э (к у кл 9 рг 9 ) мен Y (ашу) ‘быть на седьмом небе от счастья’ (букв. ‘подняться на седьмой слой неба’), баш кY кк 9 тию (тия язу) ‘запрыгать от радости; донельзя обрадоваться’ (букв. ‘головой <почти> задевать небо’), кYкт 9н б9 хет иHY ‘счастье привалило’ (букв. ‘счастье спустилось с неба’), кара болыт булып й6рY ‘ходить чернее тучи’, елганы4 яры тулган ‘готов расплакаться’ (букв. ‘берег реки полон’), кYзен 9кYл тул-ган ‘готов расплакаться’ (букв. ‘в глазу полное озеро’) и др.;
-
е) природных явлений: рус. мороз по коже ( спине ) дерет ( подирает / подрал , продирает / продрал , побирает / побрал , пробирает / пробрал , пробегает / пробежал , идет / прошел, пробегает / пробежал ) ‘разг. ощущается озноб от сильного страха, ужаса, волнения’, бросает ( кидает ) в жар ( пот , холод ) кого ‘экспрес. кто-либо испытывает сильное волнение при испуге, неприятных переживаниях и т. п.’, как будто ( словно ) громом пораженный кто ‘разг. экспрес. в растерянности, оцепенении, ошеломлении и т. п.’, метать громы и молнии ‘экспрес. ирон. распекать, отчитывать кого-л. (чаще без достаточных причин, оснований); говорить гневно, раздраженно, чрезмерно упрекая кого-л. или угрожая кому-л.’ и др.; болг. като ударен от гром ‘как громом пораженный’ (букв. ‘как будто громом пораженный’) и др.; пол. patrzeć ( wpatrzywać się ) w kogoś jak w tęczę ‘боготворить кого-л.; восхищаться кем-л.’ (букв. ‘смотреть на кого-л. как на радугу’), ciskać gromy ( pioruny, piorunami ) ‘метать громы и молнии’ (букв. ‘бросать громы (молнии)’), jak rażony piorunem ‘как громом пораженный’ (букв. ‘как будто пораженный молнией’) и др.; чеш. mraz mu přeběhl po zádech ‘у него мороз пробежал по спине’ и др.; тат. буран туздыру ‘задать жару, метать громы и молнии’ (букв. ‘поднять метель’), яшен суккан кебек ( суккандай ) булу ‘как
гром среди ясного неба’ (букв. ‘как громом поразило’), кабагыннан кар яудырып, кер-фегеннэн боз яудырып ‘проявлять недовольство, раздражение’ (букв. ‘сбрасывая с век снег, сбрасывая с ресниц град’) и др.;
-
ж) стихий: рус. как огня бояться ‘разг. экспрес. очень сильно, панически (бояться кого-либо)’, как ( будто , словно , точно ) в воду опущенный ‘разг. экспрес. угнетенный, психически подавленный чем-либо, удрученный’ и др.; болг. вардя се като от огън ‘бояться как огня’ (букв. ‘беречься, остерегаться как огня’), вря и кипя ‘быть вне себя от ярости’ (букв. ‘кипеть и кипеть’) и др.; пол. bać się jak ognia ‘бояться как огня’, w gorącej wodzie kąpany ‘вспыльчивый, нетерпеливый’ (букв. ‘выкупанный в горячей воде’), zagotowało się w kimś ‘кого-л. взорвало (прорвало); кто-л. вскипел’ (букв. ‘закипело в ком-л.’) вря и кипя ; чеш. míti (z koho, z čeho) luft ‘сильно бояться кого-л., чего-л.’ (букв. ‘иметь от кого-л., чего-л. воздух’), hned je oheň na střeše ‘разг. он очень вспыльчив’ (букв. ‘сразу, тотчас [появляется] огонь на крыше’), přijíti do varu ‘вскипеть, разгневаться, раскипятиться’ (букв. ‘закипеть’) и др.; хэ ср эт уты йоту ‘кого-л. постигло горе’ (букв. ‘глотать огонь гóря, печали’), иде якка ут ч эчу ‘метать громы и молнии’ (букв. ‘метать огонь на семь сторон’), ачу утында ‘пылать гневом’ (букв. ‘в огне гнева’), утлар чэчу ‘рвать и метать’ (букв. ‘сеять огонь’), уттан курыккан кебек курку ‘бояться как огня’ и др.
Анализ приведенных ФЕ проведен с опорой на разные критерии, которые учитывают те или иные аспекты их семантики.
-
I. Эмотивные фразеологизмы рассмотрены с точки зрения их денотативного значения: специфики номинации тех или иных эмоциональных явлений с опорой на определенные образы; регулярности использования отдельных образов для описания эмоций, близких по своему качеству или положительному / отрицательному знаку, и т. д. Установлено, что натурморфные образы актуализируются при описании широкого диапазона эмоциональных явлений (радости, печали, любви, обиды, стыда, волнения и т. д.), однако большинство данных образов соотносится с отрицательными эмоциями, прежде всего со страхом и гневом,
которые непосредственно связаны с биологическим существованием человека, с инстинктом самосохранения, а потому почти единодушно причисляются психологами к числу базовых (см., например: [Изард, 2003; Орто-ни, Клоур, Коллинз, 1995; и др.]. Если иметь в виду использование различных натурморфных образов для репрезентации одной и той же эмоции, то наибольший их перечень формируют средства описания указанных отрицательных переживаний (страха и гнева), а также печали. Например, фразеологическая репрезентация чувства страха в анализируемых языках осуществляется с опорой на целый ряд образов, в том числе животных (зайца, овцы и т. д.), насекомых (муравья, таракана и т. д.), растений (осины), природных явлений (мороза), стихий (огня, воздуха и т. д.).
-
II. Натурморфные образы, лежащие в основе внутренней формы эмотивных ФЕ, ранжированы по степени продуктивности их участия в выражении эмотивной семантики как в одном, так и в нескольких языках. Некоторые образы являются универсальными, поскольку в большинстве рассматриваемых языков они передают одинаковые или близкие эмо-тивные смыслы, другие же имеют этноспеци-фический характер:
-
А. Наиболее частотными являются зооморфные образы, которые в разных языках нередко обнаруживают общность, обусловленную внешними факторами – сходством наивных знаний носителей этих языков о внешнем виде, типичных повадках животных и т. д. Например, в эмотивной фразеологии русского, болгарского, татарского языков отражаются представления о том, что заяц – очень пугливое животное, в связи с чем внутренняя форма многих ФЕ, описывающих страх, отсылает к образу этого живого существа, которое становится символическим воплощением указанной эмоции. Аналогичные знания, как показано Ф.Н. Гукетловой, закреплены и во фразеологии других языков, в том числе индоевропейских и кавказских [Гукетлова, 2009]. В некоторых случаях образ определенного животного может лежать в основе внутренней формы ФЕ в двух и более анализируемых языках, но при этом он не только соотносится с разными эмоциями, но и имеет неодинаковое содержание. Например, образ соба-
ки актуализируется при описании негативных эмоций в русском и польском языках, но в первом он связывается с неприязнью, нежеланием и передает представления о характерных повадках животного ( как собака палку ‘прост. ирон. очень сильно (не любить, не хотеть)’), а во втором используется при описании скуки ( nudzić się jak mops ‘разг. невыносимо (ужасно) скучать’ (букв. ‘скучать как мопс’)). Нами выявлены уникальные зооморфные образы, которые демонстрируют то, как именно в сознании носителей определенного языка интерпретируются характерные особенности тех или иных представителей фауны. Своеобразие этой интерпретации зависит от многих внешних факторов, в числе которых климатические условия проживания носителей данного языка, характер их хозяйственной деятельности, культурно-исторический опыт, традиции и верования, ценностные ориентации и т. д. Большинство зооморфных образов являются уникальными в плане передачи эмотивной семантики, то есть лежат в основе внутренней формы фразеологизмов лишь в каком-либо одном из анализируемых языков. Так, многие русские эмотивные ФЕ связаны с актуализацией образа волка, что обусловлено большой значимостью данного образа для русской народной культуры и фольклора. При этом в рамках анализируемой фразеологии образ волка наделяется отрицательными коннотациями, в связи с чем используется для описания ряда негативных эмоциональных явлений, таких как злость, враждебность и т. п. Можно предположить, что в образной семантике таких сочетаний запечатлены мифологические представления о способности представителей животного мира наносить вред людям: пленять, принуждать к чему-либо, вселяться в них, мучить, отравлять, умерщвлять и т. д. (подробно см.: [Гура, 1997, с. 38–40, 85–89]);
Б. В анализируемых языках продуктивными и регулярно воспроизводимыми во внутренней форме ФЕ являются также образы, связанные с представлениями о природных стихиях. Некоторые из этих образов обнаруживают универсальность, при этом ее степень может варьироваться. Так, образ огня, который актуализируется при описании страха, демонстрирует абсолютное тождество в большинстве рассматриваемых языков: рус. как огня бояться ‘разг. экспрес. очень сильно, панически (бояться кого-либо)’, болг. вардя се като от огън ‘бояться как огня’, пол. bać się jak ognia ‘бояться как огня’, тат. уттан курыккан кебек курку ‘бояться как огня’. Это тождество может быть объяснено, с одной стороны, генетическим родством языков (если иметь в виду указанные славянские языки), а с другой – сходством житейского опыта, на основе которого формируются коллективные знания о природных стихиях, общие для носителей разных языков. Однако наряду с универсальными компонентами образа огня обнаруживаются и уникальные его черты: например, в татарском языке он служит для передачи знаний не только о страхе, но и о печали (х э ср э т уты ‘горе горькое’, букв. ‘огонь гóря, печали’). Образ огня используется в некоторых языках для передачи представлений о гневе (рус. метать искры ‘экспрес. зло, сердито смотреть’; чеш. hned je oheň na střeše ‘разг. он очень вспыльчив’ (букв. ‘сразу, тотчас [появляется] огонь на крыше’); тат. ачу утында ‘пылать гневом’ (букв. ‘в огне гнева’), утлар ч эчу ‘рвать и метать’ (букв. ‘сеять огонь’)). Отметим, что гнев может представляться в образе воды (пол. w gorącej wodzie kąpany ‘вспыльчивый, нетерпеливый-’(букв. ‘выкупанный в горячей воде’); чеш. přijíti do varu ‘вскипеть, разгневаться, раскипятиться’ (букв. ‘закипеть’)), однако степень универсальности этого образа относительна, поскольку он реализуется лишь в отдельных языках. Параллельное использование данных образов в анализируемых языках также можно объяснить общностью фоновых знаний о том, что условием кипения воды является наличие огня.
-
В. При репрезентации эмотивной семантики в исследуемых языках не менее активно используются образы, связанные с природными объектами (небо, земля, гора, туча и т. д.) и природными явлениями (гром, молния, жар, холод и т. д.). Например, универсальностью отличается образ неба, лежащий в основе внутренней формы ФЕ со значением счастья, радости, удовольствия: рус. на седьмом небе ‘разг. экспрес. безгранично счастлив, глубоко удовлетворен’; болг. на седмото небе ‘на седьмом небе’; пол. być w siódmym niebie ‘быть (чувствовать себя) на седьмом
небе’; чеш. být v sedmém nebi ‘быть на седьмом небе’; тат. иде кат к у кк э ( к у кл 9 рг 9 ) мен у ( ашу ) ‘быть на седьмом небе от счастья’ (букв. ‘подняться (взойти) на седьмой слой неба (небес)’). Данные ФЕ отражают «и культурную память архетипа, то есть языческое представление об устройстве небесного свода... и христианское представление о седьмом небе как Царстве Божием» [Пирманова, 2008, с. 16]. Аналогичная параллельная актуализация в разных языках характерна и для образа грома: рус. как будто ( словно ) громом пораженный кто ‘разг. экспрес. в растерянности, оцепенении, ошеломлении и т. п.’; болг. като ударен от гром ‘как громом пораженный’; пол. jak rażony piorunem ‘как громом пораженный’ (букв. ‘как будто пораженный молнией’); тат. яшен сук-кан кебек ( суккандай ) булу ‘как гром среди ясного неба’ (букв. ‘как (будто) громом поразило’). В то же время другие образы проявляют относительную универсальность, ср.: рус. гора с плеч ( свалилась ) у кого ‘разг. экспрес. наступило полное облегчение после избавления от забот, тревог, тяжелых обязанностей’ и болг. планина падна от гърба ми ‘у меня гора с плеч свалилась’ (букв. ‘у меня гора со спины свалилась’); рус. чернее тучи кто ‘разг. экспрес. кто-л. очень мрачен, угрюм’ и тат. кара болыт булып й 0 р у ‘ходить чернее тучи’.
-
III. Многие эмотивные ФЕ в славянских и тюркском языках строятся на основе сравнительных оборотов, и в данном случае образы животных, птиц, природных объектов и т. д. выступают как эталоны сравнения. При этом общая образная семантика характерна для двух и более рассматриваемых языков, но соотносится она, во-первых, с разными эмоциями, во-вторых, с разными субкодами. Иллюстрацией первого случая служат следующие ФЕ: рус. красный как рак кто, краснеть / покраснеть как рак ‘о человеке, у которого от сильного волнения, смущения и т. п. прилила к лицу кровь’ и чеш. být červený jako krocan ‘злиться’ (букв. ‘быть красным как индюк’). Второй случай представлен следующими примерами: рус. дуться / надуться как ( будто , словно , точно ) мышь на крупу ‘прост. ирон. кто-л. очень сильно обижен и выражает недовольство своим видом’ (зоо-
морфный субкод) и пол. nadął się jak sowa ‘надулся как мышь на крупу’ (букв. ‘надулся как сова’) (орнитологический субкод). По мнению исследователей, в устойчивых сравнениях «раскрывается самобытность национальной культуры, национальный склад образного мышления» [Огольцев, 2010, с. 7], в связи с чем их сопоставительный анализ позволяет выявить общность и различия механизмов образной интерпретации реалий мира носителями разных языков.
-
IV. В основе внутренней формы многих эмотивных ФЕ лежит метонимический принцип, в соответствии с которым эмоции описываются сквозь призму их разнообразных телесных (невербальных) симптомов. Среди них в качестве наиболее актуальных выделяются следующие:
– озноб: рус. мороз по коже ( спине ) дерет ‘разг. ощущается озноб от сильного страха, ужаса, волнения’; чеш. mraz mu přeběhl po zádech ‘у него мороз пробежал по спине’; тат. аркадан кырмыскалар ( тара-каннар ) й 0 ри ‘мурашки бегают по спине’ (букв. ‘мурашки (тараканы) бегают по спине’) и т. д.;
– мимические выражения: рус. чернее тучи кто ‘разг. экспрес. кто-л. очень мрачен, угрюм’, метать искры ‘экспрес. зло, сердито смотреть’, ровно ( как , будто , словно , точно ) муху проглотил ‘прост. о том, кто недоволен, имеет расстроенный, кислый вид’; пол. nadął się jak sowa ‘надулся как мышь на крупу’ (букв. ‘надулся как сова’); тат. кара бо-лыт булып й 0 р у ‘ходить чернее тучи’ и т. д.;
– пантомимика: болг. ходя като муха без глава ‘ходить как в воду опущенный’ (букв. ‘ходить как муха без головы’); тат. атка менг 9 нд 9 й булу ‘прыгать от радости’ (букв. ‘как будто на лошадь залезть’) и т. д.;
– слезы: тат. к у зенеЧ яше к у л булу ‘проливать море слез’ (букв. ‘слезы стали озером’) и т. д.
Выводы
Натурморфные образы, которые определяют специфику внутренней формы эмотив-ных ФЕ в славянских и тюркском языке, соотносятся с соответствующим кодом культуры, предполагающим образную репрезента- цию эмоций сквозь призму знаний как о живой, так и о неживой природе. Выявленные нами образы животных, птиц, насекомых, растений, природных объектов и явлений, стихий составляют упорядоченную систему, элементы которой ранжируются как по частотности использования, так и по универсальности / этноспецифичности содержания. Данные образы задействованы при описании широкого круга эмоций, однако большинство из них связано с отрицательными состояниями, прежде всего страхом и гневом.
Наибольшей продуктивностью отличаются зооморфные образы, образы природных объектов, явлений и стихий (небо, гром, туча, огонь, вода и т. д.), которые являются либо универсальными, либо уникальными. Общность содержания образов обусловлена генетическим родством языков либо сходством знаний их носителей о природных явлениях. Уникальность образов мотивирована своеобразием осмысления отличительных особенностей животных, природных стихий и т. д. представителями той или иной лингвокультуры. Этот процесс зависит от многих внешних факторов: климатических условий проживания этноса, его культурно-исторического опыта, традиций и верований и т. д.
Многие анализируемые ФЕ представляют собой сравнительные обороты, в рамках которых происходит преобразование натурмор-фных образов в эталоны сравнения. Данные эталоны в разных языках могут соотноситься с разными натурморфными субкодами, тем самым демонстрируя широту образного потенциала наименований природных реалий.
Список литературы Натурморфные образы в славянской и тюркской эмотивной фразеологии: параллели и контрасты
- Бразговская Е. Е., 2019. Семиотика. Языки и коды культуры. М.: Юрайт. 187 с.
- Гатауллина Р. В., 2010. Фразеологические единицы, характеризующие психические состояния человека, в немецком, английском и татарском языках: дис. ... канд. филол. наук. Казань. 205 с.
- Гудков Д. Б., Ковшова М. Л., 2007. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М.: Гнозис. 285 с.
- Гукетлова Ф. Н., 2009. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на материале французского, кабардино-черкесского и русского языков). М.: Тезаурус. 228 с.
- Гура А. В., 1997. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик. 912 с.
- Золотых Л. Г., 2008. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики (на материале русского языка): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Белгород. 48 с.
- Изард К. Э., 2003. Психология эмоций. СПб.: Питер. 464 с.
- Киселева Л. А., 2018. Культурный код как основа внутренней формы эмотивных фразеологизмов (на материале славянских языков) // Доклады Башкирского университета. Т. 3, №2 2. С. 189-193.
- Кондратьева О. Н., 2012. Натурморфная метафора как средство осмысления концепта «душа» в русской лингвокультуре (диахронический аспект) // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. №> 4. С. 83-93.
- Красных В. В., 2001. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. М.: МАКС Пресс. Вып. 19. С. 5-19.
- Мокиенко В. М., 1980. Славянская фразеология. М.: Высш. шк. 205 с.
- Новик Е. С., 1994. Архаические верования в свете межличностной коммуникации // Историко-этнографические исследования по фольклору: сб. ст. М.: Вост. лит. С. 110-163.
- Огольцев В. М., 2010. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. М.: Либроком. 192 с.
- Ортони А., Клоур Дж., Коллинз А., 1995. Когнитивная структура эмоций // Язык и интеллект. М.: Прогресс. С. 314-384.
- Пирманова С. И., 2008. Культурные коннотации фразеологизмов с компонентами свет -небо - земля: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург. 22 с.
- Скорнякова Р. М., 2010. Лингвокультурологическая концепция моделирования языковой картины мира: автореф. ... дис. д-ра филол. наук. М. 47 с.
- Топоров В. Н., 1982. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки естественнонаучных знаний в древности. М.: Наука. С. 8-40.