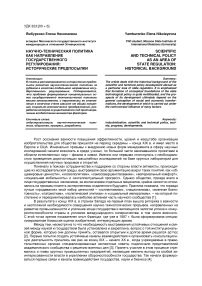Научно-техническая политика как направление государственного регулирования: исторические предпосылки
Автор: Ямбуренко Елена Николаевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются исторические предпосылки развития научно-технической политики за рубежом в качестве отдельного направления государственного регулирования. Подчеркивается, что проблема формирования концептуальных основ государственной технологической политики весьма многоаспектна, и перспективы ее становления в конечном счете зависят от общей концепции социально-экономических преобразований, разработка которой осуществляется под противоречивым воздействием множества факторов.
Индустриализация, научно-техническая политика, общество, прогресс, разработки
Короткий адрес: https://sciup.org/14931820
IDR: 14931820 | УДК: 323:[00
Текст научной статьи Научно-техническая политика как направление государственного регулирования: исторические предпосылки
Рост осознания важности повышения эффективности, уровня и масштаба организации изобретательства для общества пришелся на период середины – конца XIX в. и имел место в Европе и США. Изначально призывы к внедрению новых форм менеджмента в сферу научных исследований начали возникать в среде ученых, по большей части занимавшихся проектами в области естественных наук – физики и химии. Именно они первыми столкнулись с необходимостью проведения дорогостоящих масштабных исследований на базе крупных лабораторий для осуществления научных прорывов и открытий.
Поначалу в поисках сотрудничества и поддержки со стороны власти активисты, происходящие из исследовательской среды, выстраивали свою аргументацию вокруг таких понятий, как «общемировые ценности», «космополитизм», «самосовершенствование», «материальный комфорт», «социальная мобильность» и «интеллектуальный прогресс». Однако общество, прежде всего в лице государственных чиновников, за исключением отдельных меценатов, крайне неохотно откликалось на призывы платить за перспективы отдаленного будущего. Практика показала, что гораздо лучше «продавался» иной набор ценностей – «коллективизм», «национализм», «военная боеготовность», «патриотизм», «политический элитизм» и «социальный имперализм», – на который постепенно и переориентировалась наиболее активная часть научного сообщества [1].
В результате к концу XIX в. в странах Запада на первый план вышла риторика о важности и неотложной необходимости совершения научно-технологических прорывов, направленных на развитие промышленности и усиление мощи государства и являющихся залогом успеха и конкурентоспособности страны в условиях международного соперничества, в том числе военного. С этой точки зрения показателен опыт Франции, где уже в 1887 г. была сформирована специализированная Комиссия оценки изобретений, интересующих армию.
Между тем, несмотря на то что необходимость выстраивания устойчивых отношений и связей между наукой и государством была установлена и закреплена, вопрос о той институциональной форме, которую они должны принять, оставался открытым и долгое время решался ad hoc [2]. Первые попытки создать устойчивые каналы взаимодействия и организовать консультационную деятельность пришлись как раз на конец XIX – начало ХХ в., когда учреждаемые в правительственных органах специализированные экспертные советы подключали представителей академического сообщества к решению военных дел [3]. Принять участие в этом процессе стремились и главы крупных промышленных предприятий, желающие извлечь выгоду из особой заинтересованности власти в укреплении обороноспособности государства. Так начали формироваться первые связи и каналы взаимодействия государства, науки и бизнеса [4].
Системно же оформляться они начали лишь после Первой мировой войны. Примечательно, что наряду с США и Великобританией одним из пионеров в области государственной организации науки выступала Германия. Модель США качественно отличалась от европейской. Если Германия и Великобритания были движимы острым чувством конкуренции и необходимости обеспечения своей технической мощи в целях национальной безопасности и, как следствие, запускали масштабные программы государственного финансирования исследований, то подход США строился в первую очередь вокруг индустриально-экономической привлекательности новых разработок и характеризовался незначительным финансовым участием государства.
Вторая мировая война окончательно убедила европейских и американских лидеров в безальтернативности институционализации научно-технической политики в сфере обороны. Даже в США, не говоря уже о странах Европы, федеральное правительство заняло центральное место в системе финансирования и заказа научных исследований и разработок, связав университеты и крупные промышленные предприятия с их лабораториями со службами государственного оборонного заказа.
Вторым последствием войны стало налаживание сотрудничества в научно-технической сфере между США и Великобританией как странами-союзницами. Уже в 1940 г., когда США еще официально сохраняли нейтралитет, Великобритания направила в Вашингтон специальную Научно-техническую миссию, известную как «Миссия Тизарда», в рамках которой группа британских ученых передала ряд своих передовых разработок США в обмен на финансовую и производственную поддержку в их доработке.
Консолидация управления научными разработками и исследованиями на государственном уровне и начало обмена научно-технической информацией на межгосударственном уровне создали предпосылки для отнесения вопросов ведения научной политики к сфере деятельности Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) - института координации действий европейских реципиентов помощи, выделяемой в рамках плана Маршалла.
В 1949 г. в ОЕЭС была учреждена рабочая группа Совета по научно-технической информации, призванная обеспечить раскрытие и распространение результатов исследований как внутри стран-членов, так и вовне, что, естественно, касалось исключительно сотрудничества с США и Канадой. Для обеспечения поставленных целей в странах создавались центры технической информации. Параллельно с ними с 1949 г. в ОЕЭС действовал Комитет производительности, вскоре разделенный на Комитет по научно-техническим вопросам и Группу технической помощи. Однако их работа оценивалась США как неудовлетворительная, и в январе 1952 г. американская сторона предложила европейцам создать единое Европейское агентство производительности с большими операционными полномочиями. Но страны Европы предпочли просто объединить два существовавших органа в Комитет производительности и прикладных исследований, не меняя качественно их функций.
В этих условиях американский Конгресс одобрил программу Бентона - Муди по предоставлению обусловленной помощи в размере 100 млн долл. США 10 странам ОЕЭС и 2,5 млн долл. непосредственно ОЕЭС для создания Европейского агентства производительности (ЕАП). Комитет производительности и прикладных исследований вошел в состав нового агентства .
США настаивали на максимальной операционализации деятельности ЕАП, в том числе и в научно-технической сфере. Примечательно, что в 1958 г. по инициативе США и Великобритании в рамках ЕАП состоялась встреча представителей разведслужб государств-членов для обсуждения вопросов отслеживания научно-технических разработок СССР и других стран Востока и перевода соответствующей литературы на национальные языки для последующего распространения в странах-участницах. Постепенно заинтересованность в этом стали проявлять и европейские функционеры. Этому поспособствовала публикация целого ряда докладов, указывавших на угрожающую научно-техническую отсталость Европы как от США, так и от СССР. Среди них особое место занял доклад рабочей группы Совета Европы, посвященный оценке деятельности ЕАП, в котором ситуация в области исследований в Европе характеризовалась как подлинный кризис, а также утверждалась необходимость разработки и проведения последовательной и сбалансированной государственной научной политики [5].
Таким образом, в ОЕЭС фактически начал оформляться синтезированный подход к научно-технической политике, объединивший в себе два видения межвоенного периода: доминировавшего в Европе представления о необходимости государственного регулирования науки для нужд национальной безопасности и обеспечения конкурентного преимущества в технологической гонке, с одной стороны, и американского видения важности НИОКР для индустриализации - с другой. Именно этот подход и был унаследован ОЭСР, в которую в дальнейшем была преобразована ОЕЭС.
Ссылки:
-
1. Agar J. Science in the 20th Century and Beyond. Cambridge, 2012.
-
2. Douglas H.E. Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh, 2009.
-
3. Agar J. Op. cit.
-
4. Carson C. Knowledge Economies: Research and War // Cambridge history of World War II. Vol. III. Part A. Cambridge, 2015.
-
5. Godin B., Lane J. Making and Remaking the Measurement of Science and Technology: The International Dimension // The
Global Politics of Science and Technology. Vol. 2: Perspectives, Cases and Methods / ed. by M. Mayer, M. Carpes, R. Knoblich. Springer, 2014.
Список литературы Научно-техническая политика как направление государственного регулирования: исторические предпосылки
- Agar J. Science in the 20th Century and Beyond. Cambridge, 2012.
- Douglas H.E. Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh, 2009.
- Carson C. Knowledge Economies: Research and War//Cambridge history of World War II. Vol. III. Part A. Cambridge, 2015.
- Godin B., Lane J. Making and Remaking the Measurement of Science and Technology: The International Dimension//The Global Politics of Science and Technology. Vol. 2: Perspectives, Cases and Methods/ed. by M. Mayer, M. Carpes, R. Knoblich. Springer, 2014.