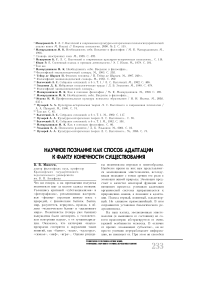Научное познание как способ адаптации к факту конечности существования
Автор: Минеев Валерий Валерьевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (8), 2009 года.
Бесплатный доступ
Научное познание, конечность существования, стратегии адаптации, адаптивно-приспособительные механизмы
Короткий адрес: https://sciup.org/14720524
IDR: 14720524
Текст статьи Научное познание как способ адаптации к факту конечности существования
-
3 Мещеряков Б. Г. Л. С. Выготский и современная культурно-историческая психология (критический анализ книги М. Коула) // Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 115.
-
4 Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию / М. К. Мамардашвили. М., 1996.
-
5 Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 492.
-
6 Мещеряков Б. Г. Л. С. Выготский и современная культурно-историческая психология... С. 114.
-
7 Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности / Э. Г. Юдин. М., 1978. С. 391.
8Там же.
-
9 Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию...
10Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 292.
-
11 Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. М., 1987. 240 с.
-
12 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 292.
-
13 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1 / Л. С. Выготский. М., 1982. С. 406.
-
14 Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. М., 1989. С. 478.
-
15 Философский энциклопедический словарь...
-
16 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / М. К. Мамардашвили. М., 1990. С. 189.
-
17 Мамардашвили М. К . Необходимость себя. Введение в философию...
-
18 Исаева Н. И. Профессиональная культура психолога образования / Н. И. Исаева. М., 2002. 235 с.
-
19 Пузырей А. А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и современная психология / А. А. Пузырей. М., 1986. С. 74.
20Там же. С. 85.
-
21 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1982. С. 117.
-
22 Пузырей А. А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского... С. 85.
-
23 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1 М., 1982. С. 101.
-
24 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. С. 60.
-
25 Эльконин Б. Д. Психология развития / Д. Б. Эльконин. М., 2001. С. 10.
-
26 Пузырей А. А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского... М., 1986. С. 73.
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ К ФАКТУ КОНЕЧНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
В. В. Минеев, доктор философских наук, профессор Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева
Что ни говори, а на протяжении полувека позитивизм шаг за шагом сдавал позиции. Увлекшись критикой «субстанциализма» и «фотографизма», революционно настроенные «физики» утратили живую связь с природой, с физическим бытием. Бытие, мир, разумеется, вернулись, правда, в облике «человеческого бытия» и «жизненного мира». Позитивисты (теперь уже бывшие) вынуждены были заговорить о «человеческом измерении науки», о ее гуманитаризации. Оказалось, что категория «наука» прекрасно смотрится в окружении таких понятий, как «бытие», «язык», «культура», «символ», «миф», «игра»... Однако рециди- вы позитивизма нередки и многообразны. Наиболее ярким из них нам представляется эволюционная эпистемология, исследующая познание с точки зрения его роли в эволюции живой природы. Эволюция предстает в качестве некоторой функции когнитивного процесса: успешная адаптация органической системы приравнивается к приращению знания, а познание к адаптации. Подход верный, понятный, плодотворный. Но слишком прямолинейный. В нем сохраняются установки биологического редукционизма.
На наш взгляд, эволюционная эпистемология (в нынешнем ее состоянии) не совсем правомерно абстрагируется от очень важной особенности человека. В отличие от прочих «познающих субъектов», он не просто успешно перерабатывает информацию, но понимает ее. При этом он способен сознательно выбирать смерть. Выбирать ее не только лично для себя, но порой для всего рода людского. Это «простое», всем известное обстоятельство имеет принципиальное значение: наше бытие не укоренено в познании полностью, а познание, в свою очередь, не тождественно биологическому приспособительному процессу. По крайней мере, следовало бы трактовать адаптацию гораздо шире, чем это сегодня делается в рамках эволюционной эпистемологии. Какими мотивами руководствуется в своей работе ученый? Зачем продолжает познавать мир, помня о неизбежности своего ухода, более того, о неизбежности гибели человечества?
Науку можно рассматривать либо в качестве средства для чего-либо иного (например, для выживания), либо в качестве цели, в качестве самоценности. В последнем случае познание мира приравнивается к игре. Игра —форма свободного самовыражения человека, деятельность, доставляющая удовольствие, противопоставляется деятельности серьезной, вынужденной, приспособительной. Тем не менее, отношение противоположностей диалектическое: правомерно говорить и о приспоби-тельном значении самой игры, культуры, искусства, и об игровом характере информационно-отражательного процесса на уровне психики. Важно только освободиться от установки на слишком узкое восприятие, как существа адаптации, так и сущности науки. Ведь человеку приходится принимать, прежде всего, не низкую температуру окружающей среды, а собственную судьбу.
Вспомним как оценивал ситуацию Мартин Хайдеггер: «Наука способ, притом решающий, каким для нас предстает все, что есть... Действительность, внутри которой движется и пытается оставаться западный человек, все больше определяется тем, что называют западноевропейской наукой... Наука... идет к тому, чтобы в конце концов наложить свою власть на весь земной шар»1.
За долгие века наука глубоко укоренилась в структуре человеческого бытия, прочно срослась с разнообразными стратегиями адаптации, со стратегиями существования в преддверии неизбежного финала. Обозначим важнейшие из них.
-
1. Познание приобщает душу к умопостигаемому миру, способствует ее совершенствованию и восхождению на все более высокие уровни бытия вплоть до слияния с бессмертной субстанцией, с Богом, с Истиной, с Космосом. Созерцающий уподобляется созерцаемому. Данная концепция, берущая начало в творчестве Платона, пифагорейцев и неоплатоников, но имеющая аналоги и в восточных традициях, привлекает, главным образом, натуры эзотерического склада2.
-
2. В акте познания разум соприкасается с вневременным миром смысла (с миром ценностей, идеальных объектов), перешагивает границы физической действительности. Эта концепция, также восходящая к Платону, но избавленная от натуралистического, буквалистского понимания бессмертия души, содержится, в феноменологических теориях3.
-
3. Раскрывая людям разумное устройство космоса, смысл природных явлений и исторических событий, наука способствует укреплению веры в Творца, а значит, спасению бессмертной души. Данный подход, намеченный все тем же Платоном и впоследствии утвердившийся в христианской теологии, в томизме, нашел горячих приверженцев в лице представителей эмпирической науки. К числу их принадлежали, например, Исаак Ньютон и Роберт Бойль4. Пуритане одобряли обращение к опыту (именно эмпирический опыт приближает нас к Богу), выступали против «язычника» Аристотеля и его иерархической модели космоса (косвенно оправдывавшей иерархию церковную). В конце концов они поддержали и гелиоцентрическую гипотезу (человек не может изначально пребывать в центре мироздания, ибо должен всего добиваться ценой собственных усилий).
-
4. Значение научных занятий в деле спасения души аналогично значению религиозной аскезы, нацеленной на борьбу с праздностью и дьяволом. Этот мотив играл большую роль в неустанном творческом поиске Ньютона, Бойля, Дарвина и других ученых-христиан, главным образом, проте-стантов5. На закате Средневековья протестанты внесли неоценимый вклад в становление классической науки. Их этические установки оказались созвучны ее устрем-
- лениям: мирской аскетизм, экономический рационализм (минимизация ритуала, методическая профессиональная деятельность и т. д.), антитрадиционализм, индивидуализм, уважение к труду, в том числе, к труду физическому...
-
5. Благодаря научно-техническому прогрессу люди одерживают победу за победой, снижают вероятность гибели от недоедания и во время кораблекрушения, лечат прежде неизлечимые болезни, а в будущем сумеют увеличить видовую продолжительность жизни вплоть до состояния практического бессмертия. Идеал, неизменно вдохновлявший древних и средневековых магов, Фрэнсиса Бэкона и Мари Жана Кондорсе, Николая Федорова и известных советских ученых, по-прежнему популярен6. Угроза гибели стимулирует прогресс научно-технический, социальный, политический. Но есть ли в нем смысл, если конец «неизбежен»? Напрашивается простое объяснение: для технократической (м атериалистической) утопии Бог и бессмертие души необходимы настолько же, насколько и для картезианской метафизики. Тогда, правда, встает другой вопрос. Если, с точки зрения христианина, «стремящегося к земле обетованной», «мир подобен пустыне», то велик ли резон беречь «одежду», с которой Бэкон сравнивал наше физическое тело?
-
6. Наука помогает нам примириться с мыслью о предстоящем уходе, поскольку убеждает в его естественности, неизбежности, полезности с точки зрения прогресса биологического и социального; ученый демонстрирует мировую гармонию и одобряет возвращение человека в лоно породившей его Природы (по большому счету, смерть вообще иллюзорна). Более того, познание, проникновение в тайны устройства мироздания позволяет духу самореализоваться и, так сказать, избыть жажду бытия (по-видимому, этот мотив сыграл важную роль в жизни Коперника, Кеплера, Гегеля, Эйнштейна). Платформа объединяет опять-таки чрезвычайно широкий круг мыслителей: от поэтов-романтиков до естествоиспытателей, от воинствующих атеистов до праведных христиан, синтоистов, индуистов. «Умри, как подобает возвращающему чужое» — советует Сенека. «Дай потоку природы тихо увлечь тебя» —
-
7. Совершая подвиги на ниве науки, герой обретает бессмертие в памяти потомков, в плодах своих трудов, в токе крови человечества (тоже очень древний идеал, реанимированный в эпоху Возрождения, востребованный и в годы революционных потрясений, и в периоды тоталитаризма)8. Познание пути духовного и физического единения людей, народов, поколений —едва ли не главный фактор глобализации. Совместно размышляя о сущности тех или иных явлений, мы превозмогаем национальную и классовую разобщенность, преодолеваем разорванность времен. Отдать жизнь за другого можно не только на поле брани, но и на операционном столе, в лаборатории.
-
8. Благодаря научным открытиям и изобретениям удастся предотвратить космическую, экологическую, наконец, социальную катастрофы и гибель рода людского или, по меньшей мере, внести существенные коррективы в ход истории. Идея, в какой-то степени знакомая средневековым авторам, Бэкону и Гоббсу, сегодня по-разному преломляется в концепциях марксистов, технократов, экофилософов, писателей-фантастов. По-видимому, сюда же следует отнести и взгляды представителей эволюционной эпистемологии, трактующих органическую эволюцию как прогресс познания9.
-
9. Наука — инструмент эволюции, в процессе которой произойдет трансформация человечества в принципиально новую форму, свободную от конечного, смертного существа. Эту гипотезу в рамках различных мировоззренческих подходов разрабатывают Пьер Тейяр де Шарден, К. Э. Циолковский, В. Н. Муравьев, В. Ф. Турчин10.
-
10. При помощи научных занятий мы стараемся заслониться от ужасающей ре-
- альности, забыть о неумолимом времени; мы просто оправдываем свое существование, делая его, так сказать, «понятным». Отголоски этой идеи, пронизывающей творчество Шопенгауэра и Ницше, слышатся в текстах психоаналитиков, культурологов, социологов11. Вместе с тем, следует принимать во внимание и различия в позициях. Так, если Шопенгауэр видел назначение знания (философского, естественно-научного) в подавлении воли к жизни и в морально-психологической подготовке человека к уходу, то Ницше, акцентировавший обусловленность наших теорий (в том числе, жизнеотрицающих) биологическим инстинктом, отнюдь не считал смерть «подлинной целью» бытия. Если Фрейд и его эпигоны понимали слова Шопегауэра (о смерти как «цели жизни») буквально, усматривая во всяком научном творчестве подсознательное желание убивать и непреодолимую тягу к самоуничтожению, то Карл Юнг, Жак Лакан и ряд других психологов, наоборот, в деструктивном поведении исследователя пытались отыскать некую творческую составляющую (стремление к новому существованию, жажду новых впечатлений и т. п.).
увещевает Гольбах. «Момент, когда человек умирает, похож на пробуждение от тяжелого сна» — успокаивает Шопенгауэр. «Умри вовремя», —строго предупреждает Ницше. Платон (в дальнейшем поддержанный Мором, Бэконом, Ницше и нашими современниками) рекомендовал «не затягивать болезнь». Он верил, что в идеальном государстве «судебное искусство» и «врачевание» кому «предоставят вымирать», а кого и «сами умертвят». Медицина призвана помочь каждому уйти легко и с достоинством. Без страха. Без боли7.
Перечисленные десять стратегий адаптации не следует смешивать с социальными функциями науки, поскольку любую такую функцию правомерно рассматривать как элемент приспособительного механизма. Едва ли могут возникнуть сомнения в том, что залогом адаптационной эффективности науки является не только гармоничное, сбалансированное развитие всех ее функций, но и обязательное применение, совершенствование, сочетание разнообразных адаптационных стратегий.
Вот почему мировоззренческой и методологической ошибкой нам представляется так называемый «воинствующий атеизм», пока еще весьма распространенный в нашей стране. Одностороннее, совершенно антиисторическое противопоставление науки и христианской культуры (или любой другой формы религиозного мировоззрения) приводит к исключению огромного количества мыслящих людей из единого мыслительного пространства, из Диалога, раскалывает общество на пустом месте. Безусловно, такая ситуация выгодна тем, кто хо- тел бы дезориентировать общество в отношении реальных угроз его существования. К тому же, роль любых социальных институтов, включая государство, церковь, науку, школу, семью, исторически изменяется.
Заметим, что, хотя тезис о цивилизационном (культурогенном) значении науки получил развитие в трудах ведущих зарубежных и отечественных философов, тем не менее, исследование конкретных адаптивно-приспособительных механизмов, посредством которых наука превращается в решающий фактор нашего бытия, до сих пор существенно отстает от объективно происходящей трансформации этих механизмов, от их исторической эволюции.
История взаимоотношений между вечной, бесконечной наукой (которая, возможно, саму материю переживет) и мимолетной человеческой жизнью теряется в глубокой древности. Сочинение древнегреческого философа Протагора «О богах», написанное в эпоху кризиса традиционного религиозномифологического мировоззрения, начиналось такими словами: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, и вопрос темен, и людская жизнь коротка»12.
Следовательно, уже несколько тысячелетий тому назад была осознана принципиальная связь между проблемой познания мира, проблемами нравственности (коли речь заходит о богах) и фактом конечности человеческого существования. В условиях кризиса преобладают настроения нерадостные. «...Мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь...» (Еккл. 2:16—17). «...Одна участь праведнику и нечестивому...» (Еккл. 9:2). Как жить, трудиться, заранее зная, что и сам ты, и твои творения обречены?
Всякая исторически сложившаяся культура, если прав Освальд Шпенглер, отличается неповторимой формой сопротивления небытию, отличается способом понимания числа и времени13. И вот, в середине первого тысячелетия до нашей эры в средиземноморском регионе зародилась цивилизация, которую обычно называют «западной». Ядром этой цивилизации, универсальным жизненным интересом ее устроителей стала, согласно концепции Эдмунда Гуссерля, наука. В отличие от тлен- ных материальных вещей, духовная реальность, представленная, например, математическими конструктами, времени неподвластна: разрушаются храмы, но не идеальные геометрические фигуры, не числа и не теоремы.
Поэтому вовлеченность в процесс теоретического познания, направленный на бесконечный прирост объективной информации о мире, позволила людям обрести новый, высокий смысл своего существования, открыть безграничные перспективы духовной работы14. Для того, кто, по словам Платона, охватывает мысленным взором целокупное время и бытие, собственный конец не покажется чем-то ужасным15. Не случайно доказательство бессмертия души Платон усматривал именно в ее близости к вечным умопостигаемым сущностям, в стремлении к знанию16.
Дело, однако, в том, что Платон в данном случае реализовал лишь одну из множества возможных стратегий адаптации человека к факту смертности. И стратегию эту нельзя считать универсальной. Она уже давно дает сбои. Согласно выводам Гуссерля, нас постигла беда — крушение веры в разум, вызвавшее глобальный кризис культуры (теперь предпочитают говорить о «цивилизационном кризисе»). В результате безусловно важных, но далеко не безобидных методологических преобразований, начатых еще Галилеем, наука выродилась в инструментальное знание, оторванное от своих духовных корней, т. е. от жизненного мира человека, от системы ценностей.
По выражению Макса Вебера (далеко не во всем согласного с Гуссерлем), естествознание подсказывает нам, что делать для того, чтобы продлить наши дни, но ничего не ведает о том, нужно ли это делать, о том, какого рода жизнь стоит того, чтобы ее прожить17. Где же, в таком случае, искать ответ? По правде говоря, мы стараемся просто не задавать неудобных вопросов (это и есть первый тревожный симптом), на худой конец, не придавать им большого значения. Действуем по инерции. Активно включаемся в безудержную потребительскую гонку, прекрасно понимая, что цивилизация, ориентированная на максимум потребления, катится в пропасть.
Между тем, отцы этой самой цивилизации (они же родоначальники науки) величайшей добродетелью, неотделимой от призвания «теоретика», считали умеренность, воздержанность во всем. Главной целью арифметики и астрономии считали воспитание гражданина, приобщение его к идеалам добра и справедливости18. Здесь открывается целый спектр альтернативных стратегий адаптации, которые в полной мере не реализованы до сих пор (мы остановимся на них чуть ниже).
Таким образом, если соединить феноменологическую проекцию с социологической и с эволюционно-эпистемологической, сопоставить выводы Гуссерля с выводами Вебера и Лоренца, то нетрудно заметить, что научная деятельность стала в значительной мере дезадаптивной. Причем, дезадаптация имеет место как на уровне биосферы, так и на личностно-индивидуальном уровне. Современному ученому, вооруженному передовыми методами и информацией, катастрофически не достает искренности, цельности. Неискренность, разрыв между профессиональным долгом и долгом партийным, между мыслью и словом, между «работой» (профессией) и «жизнью» таит в себе серьезную опасность. Ницше понял это одним из первых, хотя верил в непобедимую мощь и «хитрость» инстинктов, в биологическую целесообразность казалось бы жизнеотрицающего поведения.
Разрыв проявляется прежде всего в том, что работа теряет внутренний смысл, оставаясь всего лишь средством пропитания. Причем, средством не особенно эффективным. С возрастом раздвоение личности все глубже и болезненнее. Иной ломает голову над формулой лекарственного препарата, не испытывая ни малейшего желания спасти чью-либо жизнь. По привычке спешит в лабораторию, давным-давно разуверившись в важности, а то и в моральной позволительности своих экспериментов. Что значит для него профессия? Причина хронических заболеваний да семейных неурядиц и только.
Весьма точно обрисовал ситуацию Макс Шелер. Человек яростно бросается в водоворот дел. Накапливает деньги, имущество, информацию... Улучшает быт. Упрочивает авторитет. Однако сквозь не- скончаемый гешэфт проглядывают одиночество, сознание бессмысленности и недо-стойности собственного существования, страх19. Да, годы летят. Уходят близкие. Стареют зеркала. И рано или поздно каждый возвращается к началу: «Что несет наука обществу и чем стала она в моей судьбе?». Перед необходимостью искренне ответить на неудобный вопрос поставлено и человечество в целом.
Фридрих Ницше писал: «...Сила ума измеряется, пожалуй, той дозой «истины», которую он может еще вынести, говоря точнее, тем, насколько истина должна быть для него разжижена, занавешена, подслащена, притуплена, искажена»20.
Тому, кто привык слепо верить во всесилие науки (не вникая при этом в ее историю), точка зрения Ницше может показаться странной. И все же, не стоит спешить с выводами. По убеждению Ницше, жизнь неразумна и неморальна. Жизнь это бурный поток, буйство, нескончаемая борьба за перевес, стремление к власти. Но конец ждет каждого. Неотвратимый и бессмысленный. И выжить «наш физически слабый зоологический вид» способен, лишь «одержав победу над ужасающей глубиной миропонимания», «окутав вещи дымкой иллюзии». Одного пленяет «метафизическое утешение», другого —«покров красоты», третьего —«радость познавания».
Повинуясь инстинкту самосохранения, мы изобретаем мораль, религию, искусство, наконец, науку, оправдывающую наше существование, наделяющую его смыслом. Ибо мы слишком слабы не только физически, но и духовно, чтобы уметь жить свободно, без страха, без смысла, «наперекор ужасу и состраданию». С одной стороны, человек уже не животное, которое просто не сознает своей обреченности; с другой —еще не сверхчеловек, радостно спешащий навстречу судьбе.
Подобно мифу или искусству, наука призвана подменить поток жизни полезной фикцией, создать иллюзию порядка, устойчивости, повторения. Вот почему Ницше называет науку «уверткой от пессимизма» и «тонкой самообороной против истины». Сегодня в творчестве ученого место искренности прочно занял метод. Но и за высокими моральными принципами и «объективными» научными теориями скрывается все то же грубое, животное стремление навязать свою волю другому и как следствие выжить биологически.
Таким образом, Ницше, прозрениями которого ознаменовалось начало неклассической, современной эпохи в развитии европейской мысли, отнюдь не порывает с классической научно-философской традицией. Подобно предшественникам он видит в науке (и в культуре вообще) средство выживания, хотя существенно углубляет представления о механизмах адаптации. Он лишь доводит до логического конца тенденции, обозначившиеся ранее.
Ведь уже Фрэнсис Бэкон объявил желание бессмертия движущей силой научного, технического, социального прогресса и констатировал тождество знания и власти (над природой). Рене Декарт стал трактовать познание как конструирование объекта (а не зеркальное отражение). Иммануил Кант, чье учение по праву считается образцом научно-философской классики, утверждал, что достоверные научные основоположения только потому и возможны, что не имеют никакого отношения к реальности вне человеческого сознания (вывод куда более радикальный, чем те, к которым спустя сто лет пришел Ницше).
Но тут снова дилемма. С одной стороны, если накопленный человечеством опыт фикция, то благодаря чему нам удается выживать, угадывать верный путь в непроглядной тьме? Почему наблюдается неуклонный социальный прогресс? С другой стороны, если дух постигает законы мироздания адекватно, то почему тогда в результате многовековой истории цивилизация оказа-лась-таки на грани самоуничтожения? В поисках ответа необходимо обратиться к истокам классического рационализма.
Франсуа де Ларошфуко, военный и политик, один из законодателей интеллектуальной моды XVII в., ответственный за триумф рационализма в массовом сознании, намеревался воздвигнуть учение о нравственности на прочном фундаменте науки, объяснив поведение людей сообразно с законами природы. Искомым естественно-природным началом в человеке, обусловливающим собственно человеческие качества, пороки и добродетели, Ларошфуко представляет самосохранение, точнее, «себялюбие».
Этой же дорогой идут все современники Ларошфуко. Декарт заявляет о несовместимости стремления к разрушению самого себя с законами природы (например, с физическим законом инерции). Гоббс кладет принцип самосохранения в основание теории естественного права, а Спиноза в основание этики. Паскаль переплавляет чувство одиночества и конечности существования в ведущий мотив религиозной веры. Архитектор Просвещения Джон Локк называет «закон самосохранения» священным и неизменным и виртуозно отождествляет с ним божественное установление, естественный закон, моральный закон, политическую власть, разум, а фактически и экономическую деятельность21.
Увы, дисгармония зарождается именно в той точке, в которой, по замыслу творцов идеологии рационализма, должны были слиться воедино человеческое и природное, моральный закон и закон естественный. Речь идет не только о дисгармонии социальной (себялюбие оборачивается взаимной враждебностью людей), но и о неразрешимом противоречии в основаниях научного знания. Так, Ларошфуко неоднократно повторяет, что, сопротивляясь смерти, нельзя смотреть на нее «в упор».
Однако, в отличие от чувств и инстинктов, разум по определению может быть лишь ясным и отчетливым. И, поскольку интеллект трактуется как высшее проявление самосохранительного поведения, то слова о разуме, «советующем отвратить от смерти взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом», концепцию разума торпедируют. Разум «предает нас» и «вместо того, чтобы научить презрению к смерти, ярко освещает все, что есть в ней ужасного». Вопреки ожиданиям, сущность человека вступает в противоречие с законом природы. Истина такова, что разум не способен ее выдержать! Научный метод оказывается несовместимым с искренностью, по меньшей мере, непригодным для выражения главной «правды жизни».
Почему нельзя «смотреть в упор»? Уж не потому ли, что соприкосновение разума с феноменом смертности приводит к возникновению парадоксов, выявляет какой-то изъян в концепции, покоящейся на отождествлении рациональности со стремлением к самосохранению? Ведь, во-первых, разум в итоге оказывается беспомощным («умирают потому, что не могут воспротивиться», а не только «по глупости и по заведенному обычаю»). Во-вторых, не расчеловечивается ли перед лицом небытия индивид, строго следующий инструкциям интеллекта, не становится ли безнравственным и преступным, и не терпит ли тогда фиаско основополагающий постулат Просвещения о единстве разумного и нравственного? В-третьих, возникают сомнения в том, что «закон самосохранения» вообще является законом. Вспомним наставление Эпиктета: жизни долгой, но позорной предпочитай жизнь короткую, но честную. Конечно, подобные случаи также можно постараться интерпретировать в нужном ключе, сместив акцент с сохранения тела, на спасение души или доброго имени. Ларошфуко признает, что себялюбие «соткано из противоречий», «цели меняет», «видит», «слышит», оно «море» и «пропасти», «властно и покорно», «искренне и лицемерно». «Погибая в одном обличии, оно воскресает в другом». Столь всеобъемлющая (и неопровержимая) трактовка понятия больше напоминает миф, чем науку. И этот неожиданный, почти скандальный финал задуманного Ларошфуко предприятия говорит опять же не в пользу упрощенного понимания функций и механизмов научного познания.
Беспристрастный анализ первоисточников показывает, что потребительская, индивидуалистическая концепция «разума» (и науки) потерпела крах еще в самом начале своего пути. Просто многие не захотели замечать дезадаптивного «потенциала» такой концепции. Не хотели бы замечать и сегодня.
Список литературы Научное познание как способ адаптации к факту конечности существования
- Husserl E. Analysen zur Passiven Synthesis. -Haag, 1966. -S.379.
- Scheler M. Tod und Fortleben//Gesam. Werke. -Berne, 1957. -S.34.
- Weber M. Essays in Sociology. -N.Y., 1947. -P.144.
- Аристотель. Метафизика//Соч. В 4 т. -Т.1. -М., 1975. -С.67-69, 102-104.
- Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук//Соч. В 2 т. -Т.1. -М., 1977. -С.255-256.
- Бэкон Ф. О мудрости древних//Соч. В 2 т. -Т.2. -М., 1978. -С.260.
- Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические//Соч. В 2 т. -Т.2. -М., 1978. -С.356-357.
- Вишев И.В. Радикальное продление жизни людей. -Свердловск, 1988.
- Гоббс Т. Основы философии//Избр. произв. В 2 т. -Т.1. -М., 1989. -С.284-292.
- Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского//Избр. произв. В 2 т. -Т.2. -М., 1991. -С.98-99.
- Гольбах П.А. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного//Избр. произв. В 2 т. -Т.1. -М., 1963. -С.296-308, 354-355.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология//Вопросы философии. -1992. -№ 7.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия//Вопросы философии. -1986. -№ 3.
- Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество. -М., 1969. Структура и развитие науки. -М., 1978.
- Декарт Р. Первоначала философии//Соч. В 2 т. -Т.1. -М., 1989. -С.368-369.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. -М., 1986. -С.348.
- Дубинин Н.П. Что такое человек. -М., 1984. -С.119.
- Купревич В.Ф. Долголетие: реальность мечты//Русский космизм. -М., 1993. -С.350.
- Ламонт К. Иллюзия бессмертия. -М., 1984. -С.261-285.
- Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. -М., 1993. -278 с.
- Локк Дж. Два трактата о правлении//Соч. В 3 т. -Т.3. -М., 1988. -С.349.
- Локк Дж. Опыты о законе природы//Соч. В 3 т. -Т.3. -М., 1988. -С.33.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла//Соч. В 2 т. -Т.2. -М., 1990.
- Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом//Соч. В 2 т. -Т.2. -М., 1990. -С.611.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра//Соч. В 2 т. -Т.2. -М., 1990.-С.51-52.
- Новая постиндустриальная волна на Западе. -М., 1999.
- Новая технократическая волна на Западе. -М., 1986.
- Паскаль Б. Мысли. -М., 1994. -528 с.
- Платон. Государство//Соч. В 3 т. -Т.3. -Ч.1. -М., 1971.
- Платон. Законы//Соч. В 3 т. -Т.3. -Ч.2. -М., 1972. -С.475-476.
- Платон. Послезаконие//Соч. В 3 т. -Т.3. -Ч.2. -М., 1972. -С.408-531.
- Платон. Тимей//Соч. В 3 т. -Т.3. -Ч.1. -М., 1971. -С.538-541.
- Ньютон И. Оптика. -М., 1954. -С.280-281.
- Платон. Федон//Соч. В 3 т. -Т.2. -М., 1970. -С.43-50.
- Сабиров В.Ш. Жизнь. Смерть. Бессмертие//Человек. -2000. -Вып. 5.
- Спиноза Б. Этика//Избр. произв. В 2 т. -Т.1. -М., 1957. -С.463, 539-541.
- Турчин В.Ф. Феномен науки. -М., 1993. -С.287-291.
- Философско-религиозные истоки науки. -М., 1997.
- Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. -М., 1998.
- Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения//Фрейд З. "Я" и "Оно". Труды разных лет. -Кн.1. -Тбилиси, 1989.
- Фут Ф. Эвтаназия//Философские науки. -1990. -№ 6.
- Хайдеггер М. Время и бытие. -М., 1993. -С.239.
- Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. -М., 1968. -С.87.
- Шопенгауэр А. О воле в природе. Мир как воля и представление. Том 2. -М., 1993. -С.482.
- Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм//Соч. В 2 т. -Т.1. -М., 1990. -С.60, 114.
- Шпенглер О. Закат Европы. -Т.1.-Новосибирск, 1993. -С.45, 116, 238.
- Эйген М., Винклер Р. Игра жизни. -М., 1979. -С.75.
- Элиаде М. Космос и история. -М., 1987. -312 с.