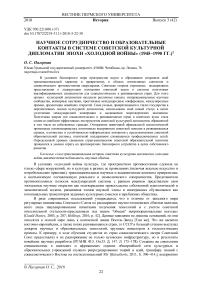Научное сотрудничество и образовательные контакты в системе советской культурной дипломатии эпохи "холодной войны" (1945-1990 гг.)
Автор: Нагорная О.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Коммуникативные аспекты научного знания
Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
В условиях биполярного мира пространства науки и образования сохраняли свой транснациональный характер и превратились в область интенсивных контактов и символического противостояния сверхдержав. Советская сторона стремилась поддерживать представления о лидирующем положении советской науки и системы подготовки квалифицированных специалистов для социалистических и развивающихся стран. Для этого органы культурной дипломатии находили различные каналы: интернациональные научные сообщества, всемирные выставки, престижные международные конференции, международные премии, презентации новейших открытий. Сами ученые, превратившиеся в глазах государства в перспективных послов культурной дипломатии, использовали свой новый статус в целях уплотнения международной кооперации и выдвижения миротворческих инициатив. Подготовка кадров для социалистических и развивающихся стран в советских вузах стала одним из наиболее эффективных инструментов советской культурной дипломатии, обращенной в том числе на собственных граждан. Отторжение навязчивой официальной идеологической пропаганды компенсировалось позитивным восприятием советской помощи в развивающихся странах, плотностью и устойчивостью неформальных контактов с представителями советской образовательной системы, политикой поддержания сложившихся профессиональных сетей. Определенный уровень своеволия стран-реципиентов советской образовательной политики проявлялся в умении играть на противоречиях биполярного устройства в целях собственного развития.
Транснациональная история, советская культурная дипломатия, холодная война, академическая мобильность, научные обмены
Короткий адрес: https://sciup.org/147245183
IDR: 147245183 | УДК: 930.221(001+37) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-22-30
Текст научной статьи Научное сотрудничество и образовательные контакты в системе советской культурной дипломатии эпохи "холодной войны" (1945-1990 гг.)
В условиях «холодной войны культур», где пространством противостояния служила не только сфера вооружений, но и культура в разных ее проявлениях (включая высокое искусство и потребительские практики), транснациональные научные и академические контакты превратились в неотъемлемую составляющую реального и символического соперничества. Представители противоположных полюсов международной системы с равным рвением представляли свои эпохальные научные открытия как подтверждение превосходства собственной идеологической и экономической модели, расценивая членов научной элиты и иностранных обучающихся как потенциальных трансляторов заданных культурных смыслов в зарубежных обществах.
В ряде современных исследований утверждается, что в отличие от западного мира регулярные инициативы Советского Союза по расширению научно-технических обменов являлись всего лишь завуалированными попытками получения технологий и с учетом советской относительной отсталости«преследовали под видом "обмена" непропорциональные выгоды» [ Gould-Davies , 2003, p. 207; Hollings, 2016, p. 42]. Данные заявления не лишены оснований, но они относятся в полной мере лишь к контактной линии Восток–Запад [Там же]. Что же касается восточно-европейских, а также позже развивающихся стран, то СССР в большей степени выступал донором научных и образовательных технологий, крупным инвестором в технологические проекты. К примеру, в ходе обучения студентов из стран социалистического лагеря Советский Союз предоставлял в их распоряжение не только вузовскую инфраструктуру, но и результаты новейших научных разработок (РГАНИ. Ф.5. Оп.35. Д. 147. Л. 175–178). Создание же советскими специалистами в азиатских и африканских странах обширнейшей сети культурных и образовательных учреждений служило репродуцированию теорий и идей, трансферу знаний с социалистического Востока на постколониальный Юг [ Katsakioris , 2011, S. 396–414.], восприятию
советских научных парадигм. В конечном счете, научный и образовательный обмен, в том числе возникшая в его рамках неформальная коммуникация акторов, стал одним из наиболее эффективных средств советской культурной дипломатии.
В данной статье будут отражены актуальные дискуссии по указанной проблематике, намечены основные тематические поля и перспективы их разработки.
«Культурный интернационализм» (А. Ирие) научного сообщества в эпоху «холодной войны» и внешнеполитические репрезентации СССР
В короткий период после окончания Второй мировой войны ученые на Западе и в СССР надеялись на дальнейшее снятие ограничений в сфере научных и образовательных контактов, которое наметилось в рамках сотрудничества союзников по антигитлеровской коалиции [ Hollings, 2016, p. 24–27]. Основанием для этих настроений стало в том числе пышное празднование 220-летия АН СССР в июне 1945 г. В нем приняли участие сотни приглашенных иностранцев, включая делегации союзных и нейтральных государств, а назначенный президентом АН Сергей Вавилов в своей вступительной речи говорил об открытости и интенсификации обмена[ Kojewnikow , 2011, S. 87–107]. Однако начавшаяся под влиянием ждановщины борьба с инокультурным влиянием ознаменовала поворот к политике закрытости, в том числе в сфере науки. Отдельные исключения делались в случае внешнеполитической необходимости. К примеру, в 1952 г. СССР выступил инициатором проведения в Москве крупного экономического совещания, собравшего ведущих финансистов, промышленников, ученых и профсоюзных деятелей со всего мира и сопровождавшегося традиционными мероприятиями советского культпоказа [ Липкин, 2016, c. 173–180].
Кардинальные изменения в миграционной политике в отношении ученых начались лишь с процессом десталинизации.Уже в 1957 г. в рамках сотрудничества со странами народной демократии по линии АН СССР было принято 735 чел., выехали за границу 703 чел.; в следующем году цифра приема в значительной степени возросла: только за девять месяцев 1958 г. в СССР приехали 1290 ученых, однако численность выехавших осталась на прежнем уровне – 700 чел. (ГАРФ. Ф. Р-9518. Оп. 1а. Д. 16. Л. 4). По данным А. Попова и И. Орлова, активное развитие научного туризма пришлось на 1960 г., когда за границу на различные мероприятия было командировано 6 тыс. сотрудников АН и ее республиканских отделений [ Орлов, Попов , 2016, с. 140].
Система научных и образовательных контактов, характерных для советской культурной дипломатии в целом, включала в себя множество институций: плановые, координирующие и контролирующие функции были неравномерно распределены между целым рядом органов и специализированных ведомств: ЦК КПСС, МИД, Государственным комитетом по культурным связям с зарубежными странами (с 1958 по 1967 г.), Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей (ВОКС) и позже (с 1957 г.) Союзом советских обществ дружбы (ССОД), Министерством высшего и среднего специального образования, ЦК ВЛКСМ и др. Одним из моторов развития научно-технических контактов в социалистическом лагере стала Постоянная комиссия СЭВ по координации научных и технических исследований. С одной стороны, нерасчлененность функций и дублирование компетенций в органах различного уровня и вида препятствовали выработке взаимоувязанных мероприятий культурной дипломатии. С другой стороны, импровизационный характер и лакуны в сфере контроля способствовали возникновению свободных пространств действия, в которых двигались не только официальные лица, но и неформальные послы советской культурной дипломатии.
Хрущевский поворот к «культурному наступлению», как считает К. Холлингс, заложил в советскую систему научных и образовательных контактов дилемму.С одной стороны, именно наука и образование стали сферами, глобальные успехи в которых давали надежду на достижение превосходства над противниками в «холодной войне» и использовались для репрезентации СССР на международной арене. С другой стороны, у советского руководства сохранялось опасение того, что множественные контакты советских ученых с западными коллегами повлияют на их лояльность системе [Hollings, 2016, p. 24–27]. Преодоление данной дилеммы носило ситуативный характер, т.е. зависело от сложившейся в конкретный момент внешнеполитической конъюнктуры: необходимость поддержания научного имиджа СССР вынуждала отправлять советских ученых на престижные научные мероприятия, проходившие в странах «враждебной» капиталистической заграницы (например, в ФРГ и США), однако число делегируемых был весьма незначительным [Орлов, Попов, 2016, с. 307].
В сравнении с межвоенным периодом [ David-Fox, 2012, 2015; Голубев, Невежин, 2016]во второй половине ХХ столетия беспрецедентное значение приобрели институционализированные формы коммуникации научного и образовательного сообщества. Международный союз научных сообществ, Международный астрономический союз и другие не только выполняли исследовательские функции, но и активно служили целям внешнеполитической репрезентации разных стран. Поддерживая свой имидж ведущей державы в области научно-технического развития, СССР принимал деятельное участие в организованных этими институциями мероприятиях. Ряд крупных форумов, проведенных по инициативе СССР на его территории, ознаменовал эпоху беспрецедентной открытости: в 1958 г. в Москве собралась десятая генеральная ассамблея Международного астрономического союза, в 1959 г. Киев принимал знаменитую Рочестерскую конференцию физиков [ Wunderle , 2015, S. 316–319].
В этот же период после запуска первого искусственного спутника Земли произошел прорыв в использовании демонстрационного эффекта достижений советской науки в целях формирования положительного мнения международной общественности об СССР. В 1958 г., когда отношение к СССР оставалось еще отрицательным из-за вторжения в Венгрию, советским руководством было принято решение выставить реплику сателлита на первой после войны всемирной выставке в Брюсселе. По мнению целого ряда исследователей, именно в этот момент советской стороне удалось эффектно продемонстрировать свое техническое и научное превосходство в орбитальных исследованиях [ Sigel , 2000,S. 174; Siegelbaum , 2012, p. 120–136]. Неподдельный интерес миллионов посетителей к данному объекту обеспечил советскому павильону феноменальную посещаемость, которая в советской прессе была представлена как признание достижений социалистической системы в целом. Столь позитивный эффект подвиг советскую сторону повторить этот прием в этом же году на менее значимых площадках, например, на Пловдивской ярмарке в Болгарии [ Neuburger, 2012, p. 48–68]. Кроме того, достижения аэрокосмической науки отныне стали неотъемлемой частью презентационной политики СССР на выставках за рубежом.
В целях политической репрезентации СССР на международной арене систематически использовалось не только техническое, но и гуманитарное экспертное знание. К примеру, в условиях необходимости включения стран Восточной Европы в советское символическое и культурное пространство Советский Союз пытался использовать в том числе славянские идеи. В состав созданного в 1947 г. Общеславянского комитета вошли видные представители писательского, научного и образовательного цехов: ректор ЛГУ А.А.Вознесенский, писатель А.С.Корнейчук, а также директор Института славяноведения АН СССР Б.Д.Греков (РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 52. Л. 12).
По инициативе ЮНЕСКО, а также в рамках билатеральных договоренностей и многосторонних форумов на протяжении 1960–1980-х гг. работали комиссии по ревизии школьных учебников, нацеленные на преодоление негативного прошлого, примирение межнациональных разногласий и распространение идей пацифизма. В странах восточного блока, где консультации проходили при доминирующей роли советской Академии педагогических наук, пересмотр учебных планов и школьных программ рассматривался как возможность дальнейшей интеграции социалистического сообщества в условиях сохранения остроты межгосударственных конфликтов (например, между ГДР и Польшей по вопросу послевоенных границ). По оценке Р. Фауре, сотрудничество в рамках комиссий по ревизии учебников применительно к западным странам не может оцениваться как однозначно эффективное [ Faure , 2015, S. 300–301]. Однако в случае СССР и стран Восточной Европы данный вопрос требует более детального анализа.
С 1960-х гг., в период активности советских культурно-дипломатических органов в странах третьего мира, научные связи оценивались как один из перспективных каналов «широкой и эффективной пропаганды успехов Советского Союза» в развивающихся государствах, особенно в условиях дипломатических кризисов. Типичными механизмами укрепления авторитета страны в постколониальном пространстве являлись направление туда советских преподавателей, развитие связанных со спецификой региона научных исследований, снабжение образовательных учреждений оборудованием, научной и методической литературой. При этом заинтересованность советской стороны в сохранении связей, даже в ущерб собственным интересам, позволяла правительствам только что освободившихся от колониальной зависимости государств проявлять определенную степень «своеволия» и играть на противоречиях сверхдержав. К примеру, несмотря на стремления СССР усилить преподавательское присутствие в сфере общественных наук и идеологического воздействия, кубинские власти во второй половине 1960-х гг. самостоятельно определяли перечень научных областей и дисциплин, необходимых, по их представлениям, для развития национальной науки и народного хозяйства, отказывались от советских учебников в пользу американских и французских, регулировали количество отправляемых на обучение в СССР студентов и стажеров (ГАРФ. Ф. Р-9576. Оп. 10. Д. 98. Л. 89–95).
В целом «холодная война» внесла изменения в статус ученого международного ранга. Отныне он подразумевал не только интернациональное признание результатов инновационной деятельности, но и общественно-политическую активность – выступления за мир, петиции в защиту прав отдельных социальных категорий, членство в определенных организациях и т.д.
В среде советских исследователей, обладающих международным авторитетом, появилась когорта так называемых «медийных лиц», на которых руководство СССР возлагало презентацию новейших достижений советской науки, продвижение ее образа как мирового лидера. Спецификой периода «холодной войны» стал феномен «ученых-дублеров»: инновационные открытия в области технических и естественных наук чаще всего представляли за рубежом не их авторы, которым гриф секретности не позволял пересекать границу. Вплоть до развала социалистического лагеря мировая научная общественность приписывала эпохальные открытия, особеннов рамках советской космической программы, другим людям [ Richers , 2013, S. 400–424]. Одобренные репрезентационные кандидатуры перед участием в конференциях в зарубежных странах проходили соответствующий инструктаж,касающийся поведения советского гражданина за границей[ Орлов, Попов , 2016, с. 195–241].
Советский Союз активно пытался вовлечь в сферу реализации культурной дипломатии авторитетные мировые умы. Ряд признанных в научном мире борцов за мир был отмечен престижной советской наградой – международной Ленинской премией мира: в их числе французский физик Ф. Жолио-Кюри, индонезийский профессор С. Сокхей. Одним из первых премию (тогда еще носящую имя Сталина) получил американский предприниматель Сайрус Итон, основавший и спонсировавший знаменитые Пагуошские конференции (ГАРФ. Ф. 9522. Оп. 1. Д. 75. Л. 1–41), предметом которых стали размышления об ответственности ученых за предотвращение ядерной, биологической и химической войн. Пышные церемонии вручения премии, проводимые за рубежом в присутствии дипломатического корпуса социалистических стран, иностранных политических и общественных деятелей, были также нацелены на достижение внешнеполитического эффекта. Комитетом по присуждению Ленинских премий мира даже предпринимались попытки вручить премию западногерманским ученым Отто Хану и Альберту Швейцеру, которые обычно во внутрисоветской пропаганде представлялись весьма негативно. Однако ученые из ФРГ, следуя логике глобального противостояния, отклонили свои кандидатуры (ГАРФ. Ф. 9522. Оп.1. Д. 46. Л. 13). Примечательно, что долгое время председателем, в который входили ведущие представители писательского цеха (А. Зегерс, П. Неруда, И. Эренбург), являлся академик Д.В. Скобельцын. Назначение в качестве председателя ученого с мировым именем можно рассматривать не только как дань беспрецедентному для эпохи авторитету науки, но и как попытку использования представлений об объективности ученых для придания веса решениям комитета.
«Переходящие границы»: иностранные студенты в мероприятиях советской культурной дипломатии
Сфера советского образования во второй половине ХХ в. может рассматриваться как транснациональное социальное пространство [Osterhammel, 2001, S. 464–479. 473; Kaelble, 2002,S. 9], где осуществлялся трансфер знаний и технологий, транслировались и усваивались определенные образцы толкования, возникла устойчивая коммуникация экспертного сообщества, часто на неформальном уровне и вне идеологических рамок. Обучение в СССР, безусловно, оказывало влияние на формирование картины мира и политический стиль элит социалистических и развивающихся стран. «Переходящие границу» между двумя реальностями превратились в устойчивый канал влияния, трансфера социалистического дискурса и социалистической идентичности в эпоху холодной войны. Согласно Д. Байрау, постоянные контакты, личные договоренности представителей партийных элит были важнее, чем формальные межгосударственные соглашения: «Свой вклад в координацию и в определенной степени в общую социализацию вносило обучение множества партийных и военных кадров, а также научное и профессиональное образование в советских вузах» [Байрау, 2011, с. 203–235]. Несмотря на амбивалентность переживания СССР, выпускники советских вузов стали самой большой группой обществ социалистических и развивающихся стран, обладавшей реальным, а не медийно опосредованным опытом переживания СССР и «социалистического сообщества» и намеренно или невольно транслировавшей его на родине [Нагорная, 2013, c. 531–540; Нагорная, 2015].
Справка о количестве студентов из стран народной демократии в 1954 г. дает представление о широком круге советских образовательных и пропагандистских институций, задействованных в работе со студентами-иностранцами (РГАСПИ. Ф.1-М. Оп. 46. Д. 176. Л. 30–39). Помимо партийных органов и профильных министерств вопросы идеологического воспитания, организации внеучебной деятельности и каникулярного времени курировали ЦК ВЛКСМ и его местные отделения. Цифры распределения по вузам демонстрируют первоначальную концентрацию студенческого контингента в столичных городах и выборочно в европейской части СССР. Территориальное ограничение размещения иностранных студентов, поддерживаемое в целях облегчения организации учебы и контроля, было пересмотрено в связи со стремительным увеличением контингента студентов и аспирантов, с которым не справлялись центральные вузы. Уже в 1961 г. в СССР обучались 2277 студентов из Вьетнама, 1955 – из Монголии, 1524 – из Китая, 1755 – из ГДР, 669 – из Болгарии, 435 – из Чехословакии, 392 – из Польши, 20 – из Румынии [ Katsakioris , 2011, S. 406].
В целях воспитания сторонников социалистической системы и идеологически подкованных профессиональных кадров руководящие органы союзных и республиканских министерств предписывали ректоратам вузов обеспечить максимально плотные контакты иностранцев с передовыми предприятиями, прославленными тружениками, наиболее сознательными советскими студентами. При этом предпринималась попытка контролировать и внеучебное время, ограничив возможное соприкосновение с неблаговидными проявлениями советской повседневности (ГАРФ. Ф. 9606. Оп. 2. Д. 44. Л. 20–29). С одной стороны, осуществление подобного просвещения в режиме «нон-стоп» было нереально, особенно в нестоличных вузах. С другой стороны, у иностранных студентовсоздавалось негативное впечатление от изобилия показательных мероприятий и они стремились уйти в более соответствующие их возрасту и интересам ниши – неформальные встречи с советскими студентами, нелегальные турпоходы или несанкционированные групповые поездки в закрытые для зарубежных гостей зоны СССР.
Проблемой, с которой сталкивались органы просвещения иностранных студентов на протяжении всего существования системы обучения, оставалось несовпадение пропаганды СССР как страны победившего социализма при подготовке кандидатов к отправке на обучение, и советской реальности. Задача преодолеть этот диссонанс возлагалась не только на функционеров партийных и комсомольских организаций, но и на советских преподавателей, прежде всего учителей русского языка (ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 16. Д. 192. Л. 7–8). В ходе языковых и страноведческих занятий им предписывалось найти приемлемые образцы толкований.Так, в первые послевоенные десятилетия нехватка товаров народного потребления и бесконечные очереди объяснялись тяжелыми следствиями Великой Отечественной войны, позже– растущими запросами населения, которые народное хозяйство СССР не может удовлетворить, так как вынуждено прилагать усилия на поддержание мира во всем мире и сдерживание происков империалистических агрессоров.
В 1960-х – начале 1970-х гг. советское руководство переориентировалось на развитие системы обучения студентов из развивающихся стран, в перспективе обещавших больший пропагандистский и экономический эффект. В области продвижения образования и науки как инструментов культурной дипломатии советские партийные и государственные деятели особенно охотно шли навстречу тем странам, которые с оружием в руках завоевали независимость и в которых до деколонизации не было научных и образовательных учреждений [ Katsakioris , 2011, S. 404].В рамках интеграционных структур восточного блока с 1974 г. начал свою работу специальный стипендиальный фонд для студентов развивающихся стран, с 1977 г. финансовая поддержка была распространена на получающих послевузовское и среднее специальное образование (РГАЭ. Ф. 561. Оп. 17. Д. 185. Л. 2–11). Стипендии для обучающихся в вузах
Советского Союза по представлению национальных женских организаций развивающихся стран учредил также Комитет советских женщин. В 1982 г. при его поддержке в средних специальных и высших учебных заведениях обучалось около 867 девушек из 62 стран Азии, Африки и Латинской Америки, более 200 к этому времени уже закончили учебу и вернулись в свои страны не только как специалисты, но и как активисты международного женского движения ( Курковская , 1982, с. 30).
Высшие учебные заведения, открытыев развивающихся странах на советские деньги и укомплектованные профессорами и специалистами, были восторженно встречены как свидетельство самоотверженной помощи СССР [ Katsakioris , 2011, S. 404]. К примеру, только в Алжире в 1970-х гг. численность советской профессуры достигла 935 чел. [ Katsakioris , 2011, S. 405]. Как подчеркивает Г. Катсакиорис, имиджевый эффект советской помощи системе образования арабских стран в условиях «холодной войны» подтолкнул западные государства к сходным шагам – бывшие державы-метрополии вслед за СССР основывали учебные заведения, снабжали их преподавателями и оборудованием. Это давало возможность арабским странам использовать конкуренцию мировых держав для реализации интересов собственного развития [ Katsakioris , 2010, р. 104].
Особой сферой приложения усилий советских культурно-дипломатических ведомств стала работа с иностранными выпускниками советских вузов, которые вне зависимости от национальной принадлежности рассматривались как потенциальные проводники советского влияния в областисвоей профессиональной деятельности. Под видом оказания дальнейшей консультационной и технической поддержки предпринималась попытка закрепить их связь с alma-mater и с СССР в целом. Одной из целей подобной деятельности было противодействие противникам в «холодной войне», использовавшим сходные средства символической коммуникации научного сообщества: присуждение почетных степеней, вручение премий и др.
Советские руководящие органы пытались использовать конкретные группы специалистов из числа выпускников для решения ситуативных задач культурного присутствия СССР в странах Восточной Европы. К примеру, в 1966 г. на фоне снижения интереса к советскому кино в Болгарии было внесено предложение об интенсификации контактов с «изрядным отрядом выпускников ВГИКа, … занимающих ключевые позиции в болгарском кино». Предполагалось, что внимание к специалистам, для которых Москва стала «вторым домом», в виде публикаций о них в специализированных советских журналах и приглашений в СССР «будет оплачено сторицей» (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 158. Л. 249).
Подборка статей советского иллюстрированного журнала «Огонек» за 1977 г. отражает принцип использования образа иностранных выпускников советских вузов в социалистическом лагере (Огонек, 1977, № 40, с. 19–20; № 51, с. 22–23). Инициированный журналом конкурс сочинений «По следам советского диплома», приуроченный к 60-летию Октября, был нацелен на обновление связей с бывшими студентами. Ход и итоги мероприятия отражались и в прессе других социалистических стран для напоминания о масштабах помощи СССР в развитии науки и образования. Не меньшую значимость, однако, имела демонстрация населению СССР и соцстран зарубежного признания успехов советской системы.
* * *
Таким образом, научное сообщество периода «холодной войны», формально разделенное в силу противостояния сверхдержав, может быть описано понятием «культурный интернационализм» (А. Ирие), которое отражает претензии индивидов и групп на создание альтернативного сообщества вне национальных границ и изменение международных отношений путем кооперации и обмена [Niederhut, 2007, S. 5]. За пределами дозируемых сверху институционализированных и формализованных контактов, несмотря на многочисленные ограничения и табу, признанные советские ученые поддерживали личные связи с представителями глобального исследовательского сообщества. К примеру, переписка Д. Скобельцына свидетельствует о егошироких зарубежных контактах, в поддержании которых были заинтересованы иностранные партнеры: даже в ходе служебных поездок за границу по делам Комитета Ленинских премий, его зарубежные коллеги выражали готовность организовать посещение лабораторий, научных учреждений (ГАРФ. Ф. 9522. Оп. 1. Д. 119. Л. 33). Вместе с тем ученые вовремя «холодной войны» осознавали политизированность своей деятельности на международной арене и использовали свой авторитет не только в целях внешнеполитической репрезентации своего государства, но и для продвижения интернациональных миротворческих инициатив в рамках возникших во второй половине ХХ в. институционализированных пространств публичной науки.
Однако обучение в вузах СССР,как отмечает П. Бабираки, имело побочный эффект: узнав советскую систему изнутри, выпускники проявляли индифферентность к ее основным лозунгам [ Babiracki, 2007, р. 201–202]. С другой стороны, при неизбежных отрицательных переживаниях советского и социалистического у части студентов связанный с возрастом преобладающе положительный эмоциональный опыт пребывания в советских вузах нашел отражение и в восприятии дальнейших взаимосвязей студентов и контактов с Советским Союзом. Часть выпускников советских вузов занимали не только ведущие позиции в своей стране, но и работали в интеграционных структурах социалистического лагеря: комиссиях СЭВ, посольствах и торговых представительствах, действительно поддерживая статус кво социалистической системы.
Список литературы Научное сотрудничество и образовательные контакты в системе советской культурной дипломатии эпохи "холодной войны" (1945-1990 гг.)
- Байрау Д. Выходцы из советского инкубатора: советская гегемония и социалистический строй в Центрально-Восточной Европе//Ab Imperio. 2011. № 4. С. 203-235.
- Голубев А.В., Невежин В.А. Формирование образа Советской России в окружающем мире средствами культурной дипломатии (1920-е -первая половина 1940-х гг.). М.: Изд-во ИРИРАН, 2016. 238 с.
- Липкин М. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х -конец 1960-х гг. М.: Б.и., 2016. 560с.
- Нагорная О. Академическая мобильность в пределах железного занавеса: студенты из ГДР в советских ВУЗах (1950-1960-е гг.)//Электронный науч.-образ. журнал «История». 2015. T. 6. Вып. 9 (42). URL: http://history.jes.su/s207987840001253-7-1 (дата обращения: 07.12.2015).
- Нагорная О.С. Восточногерманские студенты в СССР 1950-1960-х гг.: транснациональные пространства и социалистические «сети»//Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 5. С. 531-540.
- Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «Железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм 1955-1991. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. 352с.
- Babiracki P. Imperial Heresies: Polish students in the Soviet Union, 1948-1957//Ab Imperio. 2007. №. 4. Р. 201-202.
- David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015.296 р.
- David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921-1941.Oxford, 2012.416 р.
- Faure R. Netzwerke der Kulturdiplomatie. Die intemationale Schulbuchrevision in Europa 1945-1989.Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2015, 362 S.
- Gould-Davies N. The Logic of Soviet Cultural Diplomacy//Diplomatic History. 2003. Vol. 27 (2). P. 193-214.
- Hollings Chr. Scientific Communication across the Iron Curtain.Berlin: Springer International Publishing, 2016. 109p.
- Kaelble H.u.a. Zur Entwicklung transnationaler Oeffentlichkeit und Identitaeten im 20. Jahrhundert. Eine Einleitung//KaelbleH.u.a. Transnationale Oeffentlichkeit und Identitaeten im 20. Jahrhundert. Berlin: Campus, 2002.S. 7-37
- Katsakioris C. Sowjetische Bildungsfoerderungfuer afrikanische und asiatische Laender//Greiner B. u.a. (Hg.). Macht und Geist imKalten Krieg. -Hamburg, 2011. S. 396-414.
- Katsakioris G. Soviet Lessons for Arab Modernization. Soviet educational aid to Arab countries after 1956//Journal of Modern European History. 2010. H. 1. S. 85-105.
- Kojewnikow A. Die Mobilmachung der sowjetischen Wissenschaft//Greiner B. u.a. (Hg.). Machtund Geistim Kalten Krieg. Hamburg, 2011. S. 87-107.
- Neuburger MKebabche, Caviaror Hot Dogs? Consuming the Cold War at the Plovdiv Fair 1947-72//Journal of Contemporary History. 2012. 47(1). Р. 48-68.
- Niederhut J. Wissenschaftsaustausch im Kalten Krieg. Die ostdeutschen Naturwissenschaftler und der Westen. Wien: Boehlau, 2007. 374S.
- Osterhammel J. Transnationale Gesellschaftsgeschichte: Erweiterung oder Alternative//Geschichte und Gesellschaft. 2001. S. 464-479.
- RichersJu. Welt-Raum: Die Sowjetunion im Orbit//Aust M. (Hg.) Globalisierung imperial und sozialistisch. Russland und die Sowjetunion in der Globalgeschichte. 1851-1991.Frankfurt am/M, 2013.S.400-424.
- Siegelbaum L. Sputnik Goes to Brussels: The Exhibition of a Soviet Technological Wonder//Journal of Contemporary History. 2012. Vol. 47. No. 1. P. 120-136.
- Sigel P. Exponiert. Deutsche Pavillons auf Weltausstellungen. Berlin: Bauwesen Verlag, 2000. 366S.
- Wunderle U. Experten im Kalten Krieg. Kriegserfahrungen und Friedenskonzeptionen US-amerikanischer Kernphysiker 1920-1963. Paderborn: Schoeningh, 2015. 436s.