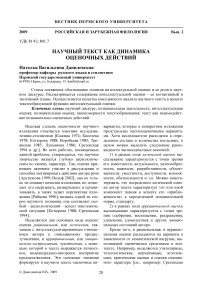Научный текст как динамика оценочных действий
Автор: Данилевская Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 2 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию понятия интеллектуальной оценки и ее роли в научном дискурсе. Рассматривается содержание интеллектуальной оценки - ее когнитивный и эмотивный планы. Осуществляется попытка комплексного анализа научного текста в аспекте текстообразующей функции интеллектуальной оценки.
Научный дискурс, познавательная деятельность, интеллектуальная оценка, познавательная оценка, закономерности текстообразования, текст как взаимодействие познавательно-оценочных действий
Короткий адрес: https://sciup.org/14728745
IDR: 14728745 | УДК: 81?42;
Текст научной статьи Научный текст как динамика оценочных действий
Высокая степень оценочности научного изложения отмечается многими исследователями-стилистами [Кожина 1974; Киселева 1978; Котюрова 1988; Воробьева 1985; Троянская 1985; Лукьянова 1986; Сретенская 1994 и др.]. Во всех работах, посвященных данной проблеме, утверждается, что научное творчество является глубоко аксиологическим по своему характеру. Так, оценка принимает активное участие в рассуждении и способна мотивировать действия автора речи [Арутюнова 1999; Вольф 2002]; она не только не снижает качества изложения, но позволяет его свертывать, развертывать и организовывать, а также задает перспективу изложения [Рябцева 1996]; являясь одной из сторон научного познания, она составляет особый – аксиологический – аспект эпистемиче-ской ситуации [Котюрова 1988; Сретенская 1994].
Выделяются два основных вида оценки: оценка рациональная, или логическая, связанная с интеллектуализированным отношением автора к описываемому предме-ту/явлению, и иррациональная, или эмоционально-экспрессивная, чувственная, с помощью которой в тексте выражается личностное, индивидуально-авторское восприятие предмета/явления. Эти основные значения формируют в научном тексте оценочные ин- варианты, которые в конкретном изложении представлены частнооценочными вариантами. Хотя исследователи расходятся в определении состава и количества последних, в целом можно выделить следующие разновидности частнооценочных значений:
-
1) в рамках поля логической оценки высказывание характеризуется с точки зрения его известности, актуальности, целесообразности, важности, разработанности, обоснованности, уместности, доступности, возможности, обязательности и т.п. Можно констатировать, что посредством логической оценки автор текста характеризует тот или иной компонент знания в аспекте его «приближенности» к определенной познавательной норме, стандарту;
-
2) в рамках поля иррациональной оценки высказывание характеризуется с точки зрения одобрения, восхищения, раздражения, удивления, удовольствия и других эмоциональных состояний автора.
Кроме того, и рациональная, и иррациональная оценки распадаются на варианты в зависимости от семантической нагрузки, выполняемой оценочными средствами в контексте. Например, выделяются утилитарные, телеологические, нормативные, эстетические, критические оценки и оценки смешанного характера [см., например: Сретенская
1994; Баженова 2001], а также отмечается, что оценки могут быть явными (эксплицитными) и неявными (имплицитными), значение которых выводится из смысла окружающего контекста [Матвеева 1990: 29; Ко-тюрова 1996: 241; Баженова 2001: 183 и др.].
Важно отметить, что, несмотря на разнообразие рассматриваемых частнооценочных значений, они осмысляются в пределах аксиологической шкалы «хорошо – плохо», т.е. репрезентируют в тексте аксиологические смыслы либо со знаком «+», либо со знаком «–», либо «нейтральные», так называемые протокольные высказывания [Лукьянова 1986; Матвеева 1990; Баженова 2001; Вольф 2002 и др.]. М.П.Котюрова пишет: «Учитывая градуальный характер оценочности, применительно к оценке научного знания можно говорить о трех видах: нулевой, или квалификативной, позитивной и негативной. Нулевая оценка соотносится не с отсутствием таковой, а с методологической квалификацией знания о субъективированном объекте; позитивная оценка – со значимостью старого для получения данным автором нового; негативная – с неприятием старого, восприятием его в качестве “помехи” в системе знания» [Котюрова 1996: 238].
Мы считаем, что оценочную деятельность в научном дискурсе можно рассмотреть более широко, благодаря чему соотнесенность оценки с компонентами научного знания будет представлять сложное явление, отражающее не только отношение автора к трем указанным субтекстам, к тому или иному фрагменту мысли, и тем более не только к старому знанию, но пронизывает всю ткань текста .
В связи с этим важно подчеркнуть, что как сама оценка, так и содержание операции оценивания не могут определяться в научном творчестве аксиологической шкалой «хорошо – нейтрально – плохо». Более того, последняя, на наш взгляд, соответствует лишь одному из уровней – при этом самому общему – структурно-семантической организации поля «научной» оценки. Оценка (операция оценивания) связана не только с актом интеллектуальной или чувственной характеризации объекта со стороны его позитивности, негативности или нейтральности, но прежде всего – с когнитивным актом по- знания (уяснения, для-себя-разъяснения, т.е. в целом – понимания), ибо оценить какой-либо предмет – значит понять его, познать, как он сделан, каковы связи составляющих его компонентов и что лежит в основе этих связей. Как видно, по отношению к такой оценке – мы условно называем ее познавательной – оценка-характеристика (о которой, собственно, идет речь в упомянутых работах, т.е. шкала «+ / нейтрально / –») оказывается весьма приблизительной и недостаточной. Не уяснив сути предмета, не поняв принципа его формирования, невозможно оценить его положительные и отрицательные стороны для практической жизни, как нельзя оценить и того, что он «безразличен» к обеим сторонам. В пользу термина-понятия «познавательная оценка» говорят и перечисленные выше функциональные разновидности логической оценки, характеризующие знание с точки зрения его близости к определенной познавательной норме.
Размышляя о соотношении субъективности и модальности в русском языке, Т.И.Краснова отмечает, что в основе модальности как способе представления фрагмента знания лежит оценка . При этом акцентируется, что модальная оценка не только проявляет себя как способ оценивания по аксиологической шкале «хорошо – нейтрально – плохо», но может быть квалифицирована «как состояние сознания субъекта речи (источник знания или мнения, цель сообщения, эмоции и желания, степень уверенности и т.п.)... оценка отвечает за широкий модусный спектр речи» [Краснова 2002: 120]. Такому пониманию оценки близко наше понимание – оценка, лежит в основе высказывания и предопределяет его характер и место в структуре текста, т.е. оценка, конструирует познавательную деятельность . М.П.Брандес справедливо замечает, что оценка всегда предшествует избранной позиции: «Знание служит действию. А действие несомненно основывается на оценке» [Брандес 1990: 87].
Об условности разделения логической и эмоциональной оценок пишет и Е.М.Вольф, по мнению которой, «в естественном языке не может быть чисто эмоциональной оценки, так как язык как таковой всегда предполагает рациональный аспект... разделение чисто рационального и чисто эмоционально- го в языке является условным» [Вольф 2002: 40. Разрядка наша. – Н.Д.]. Рациональный и эмоциональный планы в структуре оценочной шкалы отражают две основные стороны оценки – объективную и субъективную. Объективная сторона оценки связана с выражением в языковой структуре отношения говорящего к предмету речи/мысли, субъективная сторона – с выражением его эмоционального состояния [Там же. С. 41]. Иначе говоря, оценка – это не только единство «эмоция субъекта ↔ предмет», но и единство «мысль субъекта ↔ предмет». Хотя и первое, и второе единства в познавательной деятельности составляют неразрывное целое, поскольку сам процесс познания всегда включает эмоциональный элемент. Не случайно Е.М.Вольф называет эмоциональную оценку эмотивной, подчеркивая ее связь с внутренней, смысловой стороной высказывания [Там же: 38-43].
К сожалению, в лингвистике за содержанием понятия оценка закрепилось только представление о первом единстве, в результате чего оценка почти всегда связывается с выражением той или иной эмоции. Между тем соотношение собственно оценочного (эмотивного) и рационального (или дескриптивного, в иной терминологии Е.М.Вольф) «определяет сложную структуру оценочной шкалы. В языке разные средства выражения оценки ориентированы на разные стороны шкалы» [Там же: 48].
Анализируя научный текст относительно выражения в нем нового знания, мы переносим акцент на познавательную функцию оценки и считаем, что в этом случае оценка реализует себя как авторский вы бор из множества возможных только одного познавательного действия, фиксирующего в конкретном фрагменте изложения определенное отношение исследователя к старому или новому знанию. В таком понимании оценки мы опираемся на исследования философов, науковедов и психологов, утверждающих, что познание всегда начинается с операции оценивания (оценки) и предопределяется ею [Библер 1998; Ивин 1970, 2000; Ким, Блаже-вич 1998; Мамардашвили 1996; Мусхели-швили, Шрейдер 1989; Петров 1992 и др.]. При этом мы не игнорируем важности эмо- ционального плана оценки, который так или иначе вплетается в план познавательный.
Понятие познавательной оценки (или оценки в функции способа познавательной деятельности) позволяет объединить познание и оценку как предполагающие друг друга процессы эвристической деятельности, проанализировать функциональную нагрузку оценочности в речемыслительной деятельности, а также определить место и роль оценки в выражении научного знания, т.е. в целом продемонстрировать ее текстообразующее значение в общем движении познания от не-знания к знанию.
В свете сказанного важно подчеркнуть концептуальный характер познавательной оценки (далее – ПО) в научном дискурсе, поскольку она связана прежде всего с формированием и выражением нового научного знания (далее – ННЗ). Причем текстообразующая значимость этой оценки для научного изложения очевидна не только в моментах интертекстуальной связи старого (известного, предшествующего) и нового (впервые излагаемого в тексте) знания, но прежде всего в моментах интратекстуального взаимодействия (коммуникативно известного и коммуникативно неизвестного) компонентов знания, т.е. в тех фрагментах, которые посвящены доказательству, обоснованию, объяснению – одним словом, развертыванию концептуального знания и его формированию в новую научную ценность (норму). Реализуясь в тексте как имплицитно, так и эксплицитно, такая оценка является основой репрезентации и верификации научной идеи автора.
Таким образом, ПО – это когнитивный стержень, объединяющий все частные взаимодействия компонентов знания и подчиняющий это взаимодействие основной цели научного текста – фиксировать процесс созидания нового научного знания. Предлагаемое нами понимание оценки позволяет утверждать, что новое знание в момент своего появления глубоко оценочно , или – шире – аксиологично. Это особенно важно в композиционном (текстовом) плане – в процессе передачи нового знания и обоснования его истинности.
Анализ функциональной сущности познавательной оценки позволил выделить в ней два плана: собственно когнитивный, или логико-смысловой, рациональный (интеллектуальный), и эмотивный, или иррациональный (психический).
Когнитивный план ПО (или когнитивная оценка) – это вербализованные в тексте познавательные действия ученого, направленные на квалификацию компонента знания с точки зрения его роли в организации смысла окружающего контекста, а также в аспекте его общетекстового значения .
К когнитивной оценке мы относим такие познавательные действия, как констата-ция/описание, обобщение, вывод, следствие, конкретизация, уточнение, выражение причинно-следственных и следственновыводных отношений, критические, объясняющие (или экспланативные) и др., т.е. познавательные оценки, посредством которых в тексте реализуется обоснование знания. В конкретном изложении когнитивная оценка может быть представлена как эксплицитно, так и имплицитно. В речевой динамике она реализуется в виде авторского выбора определенного познавательного действия, необходимого для обоснования того или иного компонента нового знания. Это своего рода фиксаторы развития научной гипотезы, ее постепенного превращения в целостную научную концепцию. Таким образом, когнитивную оценку можно назвать рассудочной оценкой (ср. термин «рациональ-ная/логическая оценка», т.е. тип оценки, противопоставленный эмоциональной, или иррациональной, оценке): через уточнения, пояснения, конкретизацию, обобщения, выводы и т.п. автор доказывает (и самому себе, и читателю) необходимость именно такого, а не иного понимания какого-либо суждения (компонента знания), выражаемого в конкретном фрагменте текста.
Когнитивная оценка задает направление движения познавательной деятельности ученого, а следовательно, направляет и познавательную деятельность читателя. При этом когнитивная оценка напрямую связана с онтологическим полем научного текста.
Представляя в текстовой ткани тот или иной логический ход размышлений автора, такая оценка непосредственно как будто не связана с движением от старого знания к новому, поэтому и вербализуется часто в виде констатирующего высказывания (ср. абсолютные оценки). Однако в поступательном развертывании научной концепции этот тип ПО играет немаловажную роль: именно представленный в тексте авторский выбор логического хода при обосновании какого-либо компонента знания является смысловой основой для будущего (контактного или дистантного) введения в изложение такого компонента знания, который сопровождается явной оценкой. Таким образом, можно утверждать, что оценки когнитивного характера являются позитивными по своей семантике, а следовательно, в научном тексте нет нейтрального (внеоценочного) изложения. Высказывания внеоценочного характера на самом деле оценочны: они вплетаются в текстовую ткань на основе сознательного выбора автором именно такого, а не иного суждения, которое как нельзя лучше участвует в обосновании какого-либо компонента знания в данном фрагменте текста. Поэтому динамика познания, которая в когнитивнооценочных (рассудочных) высказываниях не очевидна, в действительности просто скрыта в подтексте, но выявляется при смысловом анализе.
Эмотивный план ПО (или эмотивная оценка) – это вербализованные в тексте познавательные действия ученого, направленные на выражение личного отношения автора к тому или иному компоненту знания . Иначе говоря, эмотивная оценка репрезентирует в языковой ткани оттенки эмоционального, чувственного, или собственно психического, восприятия автором того или иного компонента знания (как старого, так и нового). В целом же с помощью этого варианта познавательной оценки выражается поло-жительное/позитивное или отрицатель-ное/негативное отношение автора к содержанию речи.
Ясно, что эмотивная оценка, по сравнению с когнитивной, сопутствует выражению не только положительных, но и отрицательных смыслов, а также, в отличие от когнитивной, может быть только эксплицированной, поскольку в письменном тексте эмоцию невозможно реализовать без специальных средств.
Выражая личное отношение автора к рассматриваемому объекту, эмотивная оценка формирует психическую ауру, в которой «подается» ННЗ. В тексте это отражается обобщенно («не принимаю», «отвергаю» – «принимаю», «поддерживаю»). Эмотивная оценка помогает определить степень убежденности автора в излагаемом знании. При этом чем более категорично, явно выражается эмотивная оценка, тем более высока степень конфликтности знания. Однако важно, что конфликт старого и нового в научном дискурсе всегда выступает как позитивное начало, ибо даже отрицание какого-либо положения выступает здесь в качестве необходимого «тематического поля» для выражения концептуально значимого компонента знания.
Эмотивная ПО «сопутствует» оформлению таких познавательных действий, как определение степени достоверности знания, квалификация «авторского видения» его ис-тинности/неистинности, выражение личного отношения автора к познаваемому объекту или мнению другого ученого.
Текстообразующую роль познавательной оценки представим посредством анализа мыслительной деятельности ученого, воплощенной в конкретном произведении – статье К.А.Долинина «Речевые жанры как средство организации социального взаимодействия» [Саратов, 1999].
Статья посвящена одной из центральных проблем теории речевых жанров – проблеме интерпретации понятия речевой жанр (далее – РЖ). Эта проблема решается исследователем через более частный вопрос, а именно через осмысление коммуникативного предназначения РЖ как единицы социального взаимодействия.
Оригинальность содержания текста обусловлена тем, что в литературе не содержится исчерпывающего и непротиворечивого ответа на вопрос о сути рассматриваемого явления и его функциональной роли. И в этом смысле статья К.А.Долинина репрезентирует новое научное знание: ученый обосновывает собственную точку зрения, во многом не совпадающую со взглядами других лингвистов.
Весь текст занимает шесть страниц сборника «Жанры речи» и отличается четкой композиционной структурой, включающей в себя: 1) формулировку проблемы,
-
2) обозначение проблемной ситуации, 3) экспликацию гипотезы, 4) ее доказательство, 5) вывод.
Самой общей идеей произведения является мысль о необходимости изменить «угол зрения» на содержание понятия речевой жанр , ибо укрепившееся в лингвистике представление об этом явлении не может, по мнению ученого, дать адекватного ответа на два основных вопроса – о сути понятия «речевой жанр» и о роли РЖ в общественной коммуникации. Автор предлагает концепцию речевого жанра, основанную на новых методах анализа, позволяющих ответить на главные вопросы теории.
Для облегчения восприятия будем представлять текст относительно законченными высказываниями, характеризуя каждое с четырех сторон: 1) выражение того или иного типа ПО; 2) выражение того или иного типа научного знания: научно новое знание (ННЗ) – научно старое знание (НСЗ), коммуникативно новое знание (КНЗ) – коммуникативно старое знание (КСЗ); 3) количество представлений данной мысли в тексте, т.е. в аспекте ее повторяемости: мысль, впервые выраженная и повторяемая далее, называется основным высказыванием – ОВ, всякое повторение этой мысли является развернутым вариативным повтором – РВП [о развернутых вариативных повторах см.: Данилевская 1992, 2005]; 4) роль компонента знания в структурировании и выражении познавательных этапов.
Введем условные обозначения:
-
а) Z – начало абзаца;
-
б) – предложение (или высказывание), продолжающее предшествующую часть абзаца;
-
в) < ... > - пропуск несущественной для анализа части текста;
-
г) ↑ – обозначение связи контактно расположенных ОВ и РВП;
-
д) чтобы соотнести повторяемые мысли друг с другом, каждому основному высказыванию и его повторению(-ям) будем присваивать свой буквенный символ; а для обозначения номера повторения, как и ранее, – свой порядковый номер, например: ОВ А – РВП А1 или ОВ Б – РВП Б5 ;
-
е) полужирным курсивом обозначим языковые средства выражения определенной
оценки; полужирным курсивом с подчеркиванием – высказывания с совмещенными оценочными значениями; повторяемые мысли внутри текстовых фрагментов при необходимости будем подчеркивать . См.:
Z Для чего нужны речевые жанры? Каким потребностям носителей языка они призваны удовлетворять? [тип познавательной оценки: утилитарная ПО + ПО «направленность на адресата». Тип знания в смысловой динамике дискурса: ННЗ-КНЗ. Тип знания в аспекте первичности/вторичности: ОВ А . Роль знания в выражении познавательных этапов: формулировка проблемы].
Как ни странно , исследователи, пишущие о речевых жанрах , [тип познавательной оценки: методологич. ПО + ПО экспрессивная + уточняющая ПО. Тип знания в смысловой динамике дискурса: НСЗ -КНЗ. Роль з нания в выражении познавательных этапов: проблемный вопрос]
( в дальнейшем РЖ) [уточняющая ПО. НСЗ-КНЗ. Проблемный вопрос]
нечасто задаются этим вопросом [констатирующая/критич. ПО + ПО эмоциональная.
НСЗ-КНЗ. Проблемный вопрос].
М.М.Бахтин всячески подчеркивал необходимость РЖ для общения [констатирующая ПО. НСЗ-КНЗ.ОВ↑. Проблемный вопрос]:
«Речевые жанры организуют нашу речь так же, как ее организуют грамматические формы < ... > » [конкретизирующая ПО. НСЗ-КСЗ. РВП.Проблемный вопрос]
однако развернутого ответа на вопрос, зачем нужны РЖ , у него не найдешь [анали-тич./ констат. ПО + ПО экспрессивная. НСЗ-КНЗ . РВП А1 . Проблемный вопрос].
Z Очевидно , что ответ на этот вопрос непосредственно зависит от толкования исходного понятия [ПО «вывод» + методологич. ПО + ПО достоверности знания. ННЗ-КНЗ . Проблемный вопрос].
Если считать [аналитическая ПО. Проблемный вопрос],
как это делает ряд авторов сборника «Речевые жанры» [Жанры речи, 1977], что РЖ – это примерно то же самое, что речевые акты [констатир./уточняющая ПО. Проблемный вопрос],
то вопрос “зачем?” лишается значительной части своей актуальности [аналитич. ПО. ННЗ-КНЗ. Проблемный вопрос],
поскольку ответ подразумевается сам собой [ПО «вывод». ННЗ—КНЗ. ОВ↑].
РЖ нужны для того, чтобы осуществлять соответствующие речевые действия и адекватно воспринимать речевые акты партнера [поясняющая ПО + методологич. ПО. НСЗ-КСЗ . РВП. Проблемный вопрос].
Автор настоящей публикации исходит из иной концепции РЖ [констатир. ПО + ме-тодологич. ПО. ННЗ-КНЗ]
основные положения которой сводятся к следующим четырем пунктам [аналитич./уточняющая ПО. НСЗ-КНЗ. ОВ↑. Проблемный вопрос]
[см.: Долинин, 1997; 1998] [уточняющая ПО. НСЗ-КНЗ. РВП. Проблемный вопрос].
Далее автор перечисляет четыре основных пункта своей концепции. Интересно, что это перечисление осложнено пояснениями, уточнениями, акцентными выделениями, ссылками на труды других ученых, иными словами, познавательными оценками и свидетельствами динамики знания. Существенно то, что информация, заключенная в данном фрагменте текста, относится в основном к научно старому знанию (см. ссылку автора на собственные работы). И только «оттолкнувшись» от этого знания, по мнению автора, обоснованного и объективного, он приступает к формулировке того собственно нового, доказательству которого будет посвящена остальная часть статьи.
Далее в тексте развертывается подробное обоснование каждого из трех аспектов: 1) когнитивно-конструктивного, 2) социально-психологического, 3) социокультурного. Причем аспекты рассматриваются в строгом соответствии с той последовательностью, в которой они впервые приведены, следовательно, аналитическая оценка оказывается композиционным принципом подачи нового знания.
Отметим также, что данная часть статьи – объемом чуть более трех с половиной страниц – полностью посвящена формулировке и доказательству ННЗ. Очевидно, поэтому здесь уже нет методологических познавательно-оценочных действий, зато изобилуют онтологические, рефлексивные и коммуникативно-прагматические познавательные действия, за счет которых и разворачивается обоснование концепции. При этом, однако, остается актуальным и интертекстуальное (научно старое) знание, выступающее средством демонстрации объективности и логичности умозаключений автора.
Важно отметить, что именно в этой, новаторской, части текста можно наблюдать подлинную «игру» познавательных оценок, проявляющуюся в их многочисленных переплетениях и взаимопереходах, ведущих к интенсификации динамики взаимодействия компонентов старого и нового знания. Рассмотрим это на некоторых примерах ткани текста:
Z Начиная, примерно, с середины 70-х гг. в работах < ... > широкое распространение получает концепт, по-разному именуемый разными исследователями, но сохраняющий при этом относительную концептуальную целостность. Это фрейм по Минскому, сценарий по Шенку и Абельсону, схема по Чейфу < ... > [Констатир./Аналитич. ПО + Акцентирующая ПО. Тип знания: НСЗ-КНЗ. Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ].
Суммируя разные, дополняющие друг друга определения, можно сказать, что фрейм (сценарий, схема, модель) – это фрагмент знания о мире, организованный вокруг некоего понятия < ... > [Аналитич. ПО / Модальная ПО / Констатир. ПО. Тип знания:
НСЗ-КНЗ. Тип знания в аспекте первично-сти/вторичности: ОВ Б . . Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ].
Такие ментальные схемы обеспечивают ориентировку в ситуациях и событиях, в которых мы сами участвуем < ... > [Утилитарная ПО/Аналитич. ПО/Констатир. ПО. Тип знания: НСЗ-КНЗ. Тип знания в аспекте первич-ности/вторичности: РВП А5 . Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ].
Они позволяют нам более или менее адекватно интерпретировать поведение других людей, а также планировать собственные действия < ... > [Утилитарная ПО/Аналитич. ПО/ Констатир. ПО + ПО «направленность на адресата». Тип знания: НСЗ-КНЗ. Тип знания в аспекте первичности/вторичности: РВП А6 . Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ]
– так, чтобы партнеры понимали наши намерения и логику наших поступков [Акцентирующая ПО. НСЗ-КНЗ. РВП А7 . Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ]
[Ван Дейк 1989: 16-17, 69, 84; Чейф 1983: 43, 45; < ... > ]. [Конкретизирующая ПО; НСЗ-КСЗ; РВП Б1 . Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ].
Z Можно утверждать, что большинство фрагментов действительности, с которыми мы сталкиваемся в непосредственном опыте или через тексты, воспринимаются нами как компоненты некоторых ментальных схем [Модальная/ПО «вы-вод»/Констатир. ПО + ПО «направленность на адресата»; ННЗ-КНЗ. ОВ В. ОВ↑. Роль знания в выражении познавательных этапов: обоснование ННЗ]
( сценариев ), [Поясняющая ПО. НСЗ-КСЗ. РВП. Обоснование ННЗ]
и понять тот или иной воспринимаемый фрагмент – это и значит прежде всего соотнести его с соответствующей схемой
[ПО «вывод» + Акцентир./Экспрессивная ПО. ННЗ-КНЗ. Обоснование ННЗ].
Иначе говоря , каждый “кусок действительности” [Поясняющая ПО + Экспрессивная ПО. ННЗ-КСЗ. Обоснование ННЗ]
– в той мере, в какой мы его понимаем, – [Уточняющая ПО + ПО «направленность на адресата». НСЗ-КНЗ. Обоснование ННЗ]
функционирует как знак , означающее которого - это само явление < ... > [Поясняющая ПО + Акцентирующая ПО. ННЗ-КСЗ. РВП В1 . Обоснование ННЗ].
И, подобно тому, как знак естественного языка в речевой цепи обладает прогностической силой – [ПО «сравнение. НСЗ-КНЗ. ОВ↑. Обоснование ННЗ]
предсказывает появление других, синтагматически связанных с ним элементов или, по крайней мере , классов таковых, – [Уточняющая ПО + ПО Достоверности знания. НСЗ-КНЗ. РВП. Обоснование ННЗ]
каждый фрагмент действительности, осознанный как компонент ментальной схемы, сигнализирует о наличии или предсказывает появление других, соотнесенных с ним компонентов последней, [ПО «направленность на адресата». ННЗ-КСЗ. РВП В2 . Обоснование ННЗ]
т.е. функционирует как метонимия [Поясняющая ПО + Акцентирующая ПО. ННЗ-КСЗ. Обоснование ННЗ].<И так далее >
Заметим, что количество познавательных оценок возрастает в тех моментах изложения, где автор эксплицирует концептуальное, научно новое знание. Причем оценочная семантика здесь разнообразна. Вместе с тем можно увидеть и определенную закономерность: формирование и формулирование ННЗ протекает при взаимодействии (конструктивно-смысловом переплетении) когнитивных (преимущественно онтологических) и эмотивных оценочных действий. С другой стороны, «оживление» познавательнооценочных операций стимулирует динамику интратекстуального чередования компонентов старого и нового знания, когда актуальными для развертывания содержания оказываются прежде всего смысловые связи, формирующие основу авторской концепции. В связи с этим можно утверждать, что интра-текстуальное чередование служит неким строительным фундаментом для экспликации научно нового знания.
Завершая лингвостилистическое толкование оценки, еще раз подчеркнем, что мы интерпретируем оценку как ширококонтекстуальную мыслительную операцию, направленную на оценивание в широком смысле (с точки зрения эпистемической ситуации). В результате оценка предстает как ментальная операция уяснения познающим субъектом сути связей (или их отсутствия) определенного объекта действительности с другими подобными (или противоположными), т.е. выступает одним из компонентов самогó познания .
Professor of Russian Language and Stylistics Department
Perm State University
Список литературы Научный текст как динамика оценочных действий
- Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь, 2001.
- Библер В.С. Сознание и мышление. (Философские предпосылки)//Философско-психологические предположения школы диалога культур. М., 1998. С. 13-87.
- Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М., 1990.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 2002.
- Воробьева М.Б. Особенности реализации оценочных значений в научном тексте//Научная литература: Язык, стиль, жанры. М., 1985. С. 47-56.
- Данилевская Н.В. Вариативные повторы как средство развертывания научного текста. Пермь, 1992.
- Данилевская Н.В. Роль оценки в механизме развертывания научного текста. Пермь, 2005.
- Ивин А.А. Основания логики оценок. М., 1970.
- Ивин А.А. Теория аргументации. М., 2000.
- Ким В.В., Блажевич Н.В. Язык науки: Философско-методологические аспекты. Екатеринбург, 1998.
- Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л., 1978.
- Кожина М.Н. О соотношении стилистической окраски, стилеобразующих средств и стиля//Исследования по стилистике: сб.науч.тр. Пермь. Вып. 4, 1974. С. 3-13.
- Котюрова М.П. О некоторых особенностях смысловой структуры теоретического текста//Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII-XX вв. Т. II, ч. I. Стилистика научного текста (общие параметры). Гл. VIII. Пермь, 1996. С. 235-262.
- Котюрова М.П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста. Красноярск, 1988.
- Краснова Т.И. Субъективность -модальность (материалы активной грамматики). СПб, 2002.
- Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики. Новосибирск, 1986.
- Мамардашвили М.К. Стрела познания (набросок естественноисторической гносеологии). М., 1996.
- Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Синхронно-сопоставительный очерк. Свердловск, 1990.
- Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Н.Л. Постижение versus понимание//Учен. зап. Тартус. ун-та. Вып. 855: Текст -культура -семиотика нарратива. Труды по знаковым системам ХХIII, 1989. С. 3-17.
- Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной науки. М., 1992.
- Сретенская Л.В. Функциональная семантико-стилистическая категория оценки в научных текстах разных жанров: автореф. дис.... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 1994.
- Троянская Е.С. Научное произведение в оценке автора рецензии (к вопросу о специфике жанров научной литературы)//Научная литература: язык, стиль, жанры. М., 1985. С. 67-81.