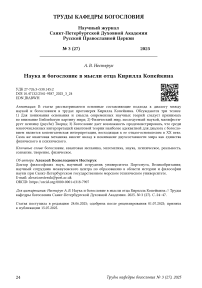Наука и богословие в мысли отца Кирилла Копейкина
Автор: Нестерук А.В.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные составляющие подхода к диалогу между наукой и богословием в трудах протоиерея Кирилла Копейкина. Обсуждаются три тезиса: 1) Для понимания основания и смысла современных научных теорий следует принимать во внимание Библейскую картину мира; 2) Физический мир, исследуемый наукой, манифестирует психику (psyche) Творца; 3) Богословие дает возможность продемонстрировать, что среди многочисленных интерпретаций квантовой теории наиболее адекватной для диалога с богословием является копенгагенская интерпретация, восходящая к ее отцамоснователям в ХХ веке. Сама же квантовая механика вносит вклад в понимание двухсоставности мира как единства физического и психического.
Богословие, квантовая механика, математика, наука, психическое, реальность, сознание, творение, физическое
Короткий адрес: https://sciup.org/140312227
IDR: 140312227 | УДК: 27-726.3+530.145:2 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_24
Текст научной статьи Наука и богословие в мысли отца Кирилла Копейкина
Введение. Встреча с о. Кириллом Копейкиным и совместная работа
Отец Кирилл Копейкин принадлежал к поколению выпускников физического факультета Ленинградского государственного университета, которое, получив глубокое образование в области физики и математики, не ограничилось исследованием видимого мира, но обратилось к вопросам о его невидимом основании. Эти вопросы отражали духовный поиск целого поколения физиков 1970–1980-х гг., стремившихся к осмыслению реальности, жизни и самой науки. Именно этот внутренний интерес привёл о. Кирилла — уже после защиты кандидатской диссертации по физике — в Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию. Учёба в этом учреждении открыла ему путь к священству.
Однако принятие священного сана не ослабило, а, напротив, обострило его интерес к физике. Это придало взгляду о. Кирилла на науку особую перспективу, поставив его в уникальную позицию — человека, способного судить о современной научной картине мира с богословской глубиной и философским размахом. Именно такая позиция и определила его устойчивый интерес к диалогу между наукой и христианской верой.
Отец Кирилл присоединился к тем, кто вёл эту работу в эпоху, когда научно-религиозный диалог начал активно развиваться как за рубежом, так и в постперестроечной России. Его вклад в этот диалог за последние тридцать лет можно проследить по многочисленным статьям, книгам, участию в семинарах, конференциях и телепередачах. Он стал вдохновителем и организатором обсуждений на границе между физикой и богословием как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Автору этих строк посчастливилось сотрудничать с о. Кириллом на различных научных и богословских площадках — как в России, так и за её пределами.
Несмотря на то, что о. Кирилл окончил физический факультет двумя годами позже, наша личная встреча произошла лишь в 2010 г. на конференции по науке и богословию в Звенигороде. До этого я знал его лишь заочно — по его публикациям. Но после личного знакомства наше сотрудничество стало постоянным и плодотворным. Трудно сейчас вспомнить все мероприятия, в которых мы вместе участвовали, поэтому остановлюсь только на одном, последнем и, пожалуй, самом значимом совместном проекте, продолжавшемся с 2016 по 2023 гг., а по сути — до самой кончины о. Кирилла.
Речь идёт о международной инициативе под названием « Science and Orthodoxy in the World» («Наука и православие в мире»), координатором и организатором которой выступал Греческий национальный исследовательский фонд (National Hellenic Research Foundation, Афины) при финансовой поддержке Фонда Джона Темплтона (Templeton Foundation). На первом этапе этот проект сосредоточился на проведении ежегодных конференций, посвящённых различным аспектам диалога между православием и наукой. Мы с о. Кириллом неоднократно встречались на этих форумах в Афинах.
На втором этапе, начиная с 2019 г., характер проекта изменился. В конце 2018 г. мы приняли участие в организационном совещании, где предложили новый формат: работа небольших тематических групп с целью выпуска коллективных монографий. Координаторы проекта поддержали эту идею.
Среди восьми созданных исследовательских групп одна — «Космология и богословие» — координировалась мной и коллегой из Австралии. Другая, под названием «Материя и сознание», — о. Кириллом и физиком из Франции. Однако из-за болезни французский коллега выбыл из проекта, и я стал вторым координатором этой секции.
Планировались очные встречи и интенсивные рабочие сессии, однако пандемия и затем ухудшение международной обстановки вынудили нас перевести всю работу в онлайн-формат. Несмотря на это, нам удалось успешно завершить проект. Его итогом стали две коллективные монографии на английском языке: одна — по богословию и космологии (под моей редакцией1), другая — « Consciousness and Matter: Mind, Brain and Cosmos in Dialogue Between Science and Geology» 2 («Сознание и материя: разум, мозг и космос в диалоге науки и богословия»), подготовленная под нашей общей редакцией с о. Кириллом. Отдельные статьи из этих монографий были опубликованы на русском языке в журнале «Труды кафедры богословия».
В монографии «Сознание и материя» была опубликована заключительная статья о. Кирилла. Как будет показано ниже, именно в ней он выразил свою ключевую философско-богословскую позицию по ключевым вопросам диалога науки и веры. Отец Кирилл планировал развить идеи этой статьи в своей новой книге, которую, к сожалению, не успел завершить. Я сознательно акцентирую на этом внимание, поскольку дальнейший анализ его концепции будет основываться на содержании этой статьи.
В завершение этого введения хочется упомянуть, что у нас с о. Кириллом были планы продолжить совместное исследование в области богословского осмысления квантовой теории. К сожалению, эти планы не были реализованы. Однако всё, что уже сделано о. Кириллом в этой области, заслуживает внимательного изучения и развития. Будем надеяться, что Господь даст силы тем, кто знал, любил и ценил о. Кирилла, продолжить его труд и способствовать публикации его последней книги.
Наука и Богословие в мысли о. Кирилла Копейкина
Множество статей о. Кирилла посвящены разным аспектам того, что последние тридцать лет называлось «диалогом» между наукой и богословием. Этот диалог породил множество форм и подходов, в особенности на Западе, так что описать суть того, что подразумевается под этим диалогом, непросто. Он включал как простые схоластические схемы соотношения науки их богословия в стиле «согласованности» или радикального различия того, о чем говорит нарратив науки и богословия. Он включал разновидности т.н. естественной теологии, в которой научная картина мира использовалась для того, чтобы произвести новые аргументы о существовании Творца. Имелись также более специализированные работы, связанные с теорией эволюции, биоэтикой и экологией. Диалог науки и богословия привел к установлению даже некоторых новых (по названию) дисциплин, таких как астротеология3 или квантовая теология4. В свете этого будет разумно охарактеризовать вклад о. Кирилла в этот «диалог», не подводя его под какие-либо упомянутые схемы, а сформулировать то, что было уникального для него. И здесь я ограничусь тремя с моей точки зрения ключевыми темами, о которых писал о. Кирилл и о которых он так вдохновенно рассуждал на конференциях и семинарах. Эти темы таковы: 1) Для понимания основания и смысла современных научных теорий следует принимать во внимание Библейскую картину мира; 2) Физический мир, исследуемый наукой, манифестирует, как говорил о. Кирилл, псюхе (^иХП = psyche) Творца; 3) Богословие неявно дает возможность продемонстрировать, что среди многочисленных интерпретаций квантовой теории наиболее адекватной является классическая копенгагенская интерпретация, восходящая к ее отцам-основателям в ХХ в. Сама же квантовая механика вносит вклад в понимание двухсоставности мира в его единстве, т. е. как физического, так и психического. В связи с этим квантовая теория также оказывается полезной в экспликации фундаментальной проблемы сознания. Третья тема имеет прямое отношению к выводу о. Кирилла о структурном основании физического мира во второй теме. Для простоты изложения мы будем ссылаться только на две крупные работы о. Кирилла, предполагая, что читатель сможет найти в них все дальнейшие ссылки.
Современная наука исторически укоренена в христианском богословии
Пожалуй, эта тема является самой прозрачной в отношении того, о чем ратовал о. Кирилл, поскольку его опыт преподавательской и просветительской деятельности в области истории и философии естествознания давал ему богатый материал для обоснования часто упускаемого обстоятельства, что исходные импульсы европейской науки во многом сопровождались интересом и потребностями, лежащими в сфере религиозного осмысления окружающего мира. Как писал о. Кирилл, «наука не просто не а-теистична — напротив, она, если так можно выразиться, тео-логична и теистична»5. Простой взгляд на историю европейского естествознания показывает, что интерес к природе был свойственен многим отцам Церкви, как греческим, так и латинским. Достаточно вспомнить блж. Августина, который утверждал, что естественная теология (theologia naturalis) являлась наиболее надежной в плане рассуждений о Боге, нежели любые другие, как он говорил, «сказочные» теологии. Другими словами, начиная с XII в., когда были основаны первые европейские университеты в Оксфорде и Париже, наука стала неотъемлемой частью христианской ментальности, ибо она служила целям самого богословия. Отец Кирилл любил язык двух книг — Книги Откровения и Книги Природы. У этих Книг один автор. Казалось бы, логически между ними не должно быть противоречия, если уметь их читать. Эти книги дополнительны, ибо обе они в конечном итоге предназначены одному и тому же читателю — человеку, призванному Богом-Творцом осуществить моральный синтез этих Книг. Как пишет о. Кирилл, «естественнонаучное “прочтение” Книги Природы оказалось функционально похоже на исследование библейского текста»6.
Отец Кирилл уделял особое внимание той революции в понимании мира, которая происходила в XVII в. Он описывал эту революцию как переход от прагматической и семантической интерпретации Книги Природы к синтаксической, при который изменился язык выражения смысла природы на языке математики. И этот язык являлся таким, на котором человек был способен понять то о тварном мире, что хотел сказать его Творец. Именно освоение природы на этом языке дало возможность человеку не просто познавать мир, но формулировать в отношении его новые имена в соответствии с тем, что было поручено ему Творцом.
Познание мира как прочтение Книги Природы предполагает определенную веру человека в Бога и веру в то, что познание о Боге может быть достигнуто на путях разума. Об этом писали древние Отцы Церкви. Но вопрос о самой возможности естествознания и его приложимости для выводов богословского характера никогда специально не обсуждался. Человеку выделялась центральная роль в осмыслении мироздания и именно поэтому он был снабжен теми атрибутами, которые были присущи Творцу.
После того, как оказалась осознанной роль человека в соотнесении двух Книг, естественно вставал вопрос уже чисто философского плана: в чем состоит основание фактической возможности прочтения этих книг. Другими словами, возникает вечный «темный» вопрос о происхождении сознания человека. С одной стороны, богословие и наука имеют своим основанием это сознание и рассуждают о своих отношениях изнутри этого сознания. Но, с другой стороны, вопрос о самом сознании и его основании оказывается непроясненным, кроме как в акте веры с указанием на Бога, в образе которого был сотворен человек, обладающий сознанием. Другими словами, если претендовать на то, что прочтение Книги Природы в совокупности с Книгой Откровения позволяет вынести суждение о смысле мироздания в его отношении к Творцу, такое прочтение, как это ни звучит странно, должно предполагать экспликацию самой возможности прочтения, т. е. сознания, читающего эти Книги. И в этом движении мысли обсуждение естествознания и богословия в XXI в. радикально отличается от тех рассуждений, которые велись в предыдущие столетия. Если использовать философский язык, естественная установка сознания в отношении диалога между наукой и богословием как некоем внешнем модусе рефлектирующего сознания человека заменяется установкой на поиск субъективного источника этого отношения в самом сознании. Но при этом, естественно, встает вопрос о происхождении этого сознания. И на этом этапе роль Библейской картины мира и сам способ прочтения Книги Откровения меняется, когда становится важным не столько содержание того, что написано в Книге Откровения, сколько сами скрытые условия возможности прочтении ее и Книги Природы, т.е. скрытые признаки того, чем обусловлено происхождение сознания. Действительно, тезис о. Кирилла о том, что Библейская картина мира необходима для понимания смысла современной науки, получает свое выражение в том, что в ней скрыто заложены условия возможности прочтения Книги Природы. Если переформулировать это проще, в основании сознания находится творческий акт Бога, передающего человеку часть своего образа в видении и способности участвовать с со-сотворении мира через его освоение и изучение.
Важность такого разворота к пониманию того, что же лежит в самом основании диалога между наукой и богословием, определяется тем — и о. Кирилл неоднократно настаивал на этом, — что в современном естествознании отсутствует какое-либо понимание того, что есть человек как ипостасный центр, из которого происходит построение систематического единства природы. И вся энергия мысли о. Кирилла была направлена на то, чтобы привлечь внимание физиков, биологов, физиологов, психологов и других представителей естественных наук к тому, что само основание всех этих натуралистических дисциплин остается непонятым. Ни одна из этих наук не способна приоткрыть завесу того, что же лежит в основании сознания. Проводя подробный анализ того, почему проблема сознания «приобретает стратегическое значение» в XXI в., о. Кирилл систематически обосновывает тезис, что без обращения к богословию, без обращения к прочтению книги Откровения от первого лица приблизиться к пониманию как структур субъективности, так и их конкретной фактичности невозможно: «проблема сознания, по нашему глубокому убеждению, не разрешима вне теологического контекста»7. Но в его видении данный тезис приобретает еще одно содержание: генезис сознания предстает человеку только через работу этого сознания по познанию мира. Само познание мира и является экспликацией того, что есть сознание. Но поскольку «физика дарует человеку теоретическое видение мира, а значит, в определенном смысле позволяет увидеть мироздание “глазами Творца”»8, присутствие Творца в самом сознании становится необходимым для того, чтобы мир был познаваем так, как «видит его Творец». И для человека средством понимания и выражения того, что он познает, является математика, структура которой в нашем сознании согласована с природой мироздания9. При этом, как подчеркивал о. Кирилл, «математический универсум, как и Вселенная, творится из ничего (из пустого множества) словом — словом человека-творца, сотворенного по образу и подобию Творца мироздания. Здесь подразумевается, что сама возможность математического освоения мира проистекает из того, что человек сотворен в образе Творца мира, который сотворил этот мир в соответствии с законами, которые получают словесную формулировку с помощью математики. Тварному человеку передана эта способность видения мира математически через образ и подобие Творцу10.
То, что сознание ученого «математично», не вызывает сомнений. Однако для многих философов был актуален вопрос о том, насколько математизация природы эффективна в раскрытии всех возможных тайн бытия. То есть не остается ли за пределами математического представления природы чего-то, что наукой не познано и может быть даже непознаваемо. Другими словами, вопрос стоит о том, насколько математический строй мышления человека, переданный ему самим Творцом, исчерпывает видение реальности человеком. Здесь возникает проблема объективности познания и градаций структур познаваемой реальности. Что не зависит от субъективности, а что, по сути, является неким преломлением, воплощением этой субъективности в материальной природе. Если обобщить, то возникает проблема соотнесения сознания и материи не столько в плане, как возможно сочетание душевных функций человека с его телесным существованием, сколько как проблема адекватности наших сознательных образов мира содержанию самого мира. В такой формулировке проблемы предполагается, что у человека в сознании рождается идея того, что его видение реальности не есть сама реальность. Но это парадоксальная мысль, если она не касается тех аспектов реальности, которые могут представлять угрозу физическому существованию человека. Что или кто может гарантировать человеку, что его представление о реальности соответствует тому, как эта реальность была сотворена Творцом? Для о. Кирилла ответом на этот вопрос служило указание на то, что даже если в своей физической конституции человек имеет дело только с тем аспектом реальности, которая открыта человеку через физическое взаимодействие с его телом, остается тот дополнительный, идеальный смысл этой реальности, который может быть выражен на языке идеальных форм, т. е. способности воображения и представления, унаследованных человеком от Творца.
Из обсужденного выше достаточно прозрачно следует главный вывод рассуждений о. Кирилла о том, что процесс познания природы человеком возможен только потому, что человек является своего рода «носителем» разума Творца. Соответственно, диалог между наукой и богословием неизбежен в силу того, что разумное познание мира только и возможно, если субъект познания является образом и подобием Творца мира. Однако этот диалог по сути является не столько диалогом, сколько аспектом того, как конституирован человек. Диалог является конститутивным элементом самой человечности, понимаемой только в ее связи с Богом.
Однако, кроме этого, с философской точки зрения почти что очевидного вывода, о. Кирилл идет дальше, перенося выводы современной науки в онтологию, т. е. экспликацию структуры мироздания, как оно представляется человеку. И в первую очередь он ратует за то, что классическое со времен ХVII в. представление о мире как двухсоставном конгломерате физического и психического радикально изменяется самой сутью современной науки. Речь идет о том, что современная физика, в особенности квантовая теория, подводит мыслителей к пониманию того, что материальные сущности не являются пассивными по отношению к тому, как их наблюдают, а манифестируют признаки активности или, если так можно выразиться, признаки «жизни». Квантовая механика дает повод к такой трактовке физической реальности. Отец Кирилл апеллировал к отцам- основателям квантовой механики, особенно к Джону фон Нейману, который в своей известной книге о математических основаниях квантовой теории11 на примере проблемы измерений сделал несколько радикальных выводов о природе сознания как деятельностного фактора в конституции смысла физических сущностей на квантовом уровне. Отец Кирилл также неоднократно ссылался в своих трудах на Эрвина Шредингера, сформулировавшего тезис о том, что реальность, которую мы привыкли считать физической, не отличается радикально от реальности психиче-ской12. При этом необходимо помнить, что «психизм» физической реальности связан не только с деятельностью наблюдателя, но присущ самой физической системе и выражается в том, что результаты измерения не детерминированы причинными физическими законами. Отец Кирилл отмечает, что представление о внутренней жизни материи не противоречит христианскому взгляду, согласно которому мир призван к обожению. Он пишет: «утверждение факта пронизанности материи жизнью есть неизбежное следствие тварности мира, его несамобытности, укорененности в бытии Творца. Тварность мира означает, что вся тварь жива в меру своей сопричастности Жизни Творца»13. Признаком жизни материи является то, что мы в процессе своей познавательной активности вступаем в определенное отношение с ней. Это отношение между сотворенным человеком и сотворенным объектом. Конечно, надо помнить, что подобные жизненные свой ства физических систем проявляют себя на микроскопических масштабах. В классической физике сознание не влияет на исход физического измерения над объектом, если конечно не считать, что сами наблюдения над ними были инициированы человеком как мыслящим существом. Так что реальность, открытая на основе наблюдений, зависит от интересов и намерений исследователей. То есть она раскрывает себя лишь в той мере, в какой человек проявляет интерес к ней.
Отец Кирилл акцентировал внимание на существовании «внутреннего измерения» бытия, которое было вскрыто квантовой механикой. Однако эта реальность относительна: «она в известной степени “субъективна,” а потому может проявлять себя так или иначе по отношению к наблюдателю»14. Понимание внутреннего измерения мира требует от человека взгляда на этот мир из измерения Творца, а не просто объективного описания того, как этот мир ведет себя, например, в классической физике. Но такое понимание предполагает новый синтез элементов физической реальности с законами функционирования психики, с помощью которой мир познается. Мы снова приходим к центральности вопроса о сознании. Новый синтез де факто должен был бы пролить свет на то, что является основанием и что структурирует работу сознания. Здесь возникает проблема, как согласовать описание мира в первом и третьем лице. И если основанием для представления мира в третьем лице служит первичный опыт жизни и мира в первом лице, то сам опыт существования в первом лице оказывается нередуцируемым к какой-либо более глубокой структуре. Как говорят в феноменологии, любая попытка обосновать опыт личностного сознания сведением его к чему-то более глубокому никогда не выходит за пределы сферы этого сознания.
Наука не в силах прояснить случайную фактичность сознания, но по крайней мере она подводит исследователя к пониманию того, что все, о чем говорит эта наука, дает определенное представление о том, как это сознание функционирует. Однако само «знание» о сознании остается нашим внутренним сознанием. Вот как пишет об этот о. Кирилл: «То единственное бытие, которое мы действительно знаем — наше собственное — совсем не похоже на “внешнее” существование. Себя мы знаем, скорее, как живой непрерывный поток — поток сознания, чувств, эмоций, собственно, то, что обозначается библейским термином олам. Наше бытие есть онтологический процесс активного дления жизни — процесс постоянного самоподдержания жизни»15. Соответственно, человек познает мир исходя из условий этой длящейся сознательной жизни. И теоретическая, и математическая матрица познания мира отражают то, как это познающее сознание функционирует в условиях физической реальности.
Поскольку европейское естествознание укоренено в традиции прочтения Книги Откровения и Книги Природы, математическая структура современной науки указывает на то, что этот язык имеет своим происхождением Творца мира. Другими словами, сознание человека, как оно функционирует в современной науке, происходит из своего образа в Творце. Отсюда следует вывод, что сама возможность современного естествознания укоренена в способности человека использовать свой разум в образе Творца. Как уже было сказано выше, о. Кирилл делает вывод, что приближение к решению проблемы сознания невозможно без теологического контекста. Если применить этот тезис к вопросу о диалоге между наукой и богословием, становится понятно, что наука может осознать саму возможность собственного функционирования лишь поместив себя исторически и логически в теологический контекст. Если мир — это Книга Бога, взаимодополнительная по отношению к Библии, то прочитать эту книгу можно только на основе понимания того, как опыт Откровения привел к выработке способности чтения Книги Природы.
Мир как ψυχή (психика) Творца
На этом этапе рассуждения о. Кирилл приходит к достаточно, на первый взгляд, неожиданному выводу о том, что если природа является содержанием того, что написано в Книге Природы, т.е. текстом, а автором этого текста является Творец, то мир по сути манифестирует псюхе (ψυχή = психику) Творца. Вот как пишет об этом о. Кирилл: «Если мы, с одной стороны, логически осмыслим все то, что известно нам сегодня благодаря изучению “элементов”, стихий Книги Природы, а с другой — вспомним тот богословский контекст, в котором происходило формирование современной науки, то будем вынуждены прийти к неожиданному… выводу: “Мир есть психика Творца”, “ибо в Нем мы живем, и движемся и существуем”, психика в том смысле, что, во-первых, мир представляет собой не мертвую “материю”, но живую логосную ткань бытия и, во-вторых, Богу не нужно никакого “органа” для того, чтобы прикоснуться к миру. — Он имеет непосредственный доступ к нему так же, как мы имеем непосредственный доступ к своей психике (последний курсив мой. — А. Н.)»16.
Для того, чтобы правильно понять эту мысль — что мир и Творец находятся в таком же соотношении, как человеческая личность с конкретным содержанием своей психики, — нужно сопроводить цитату из о. Кирилла небольшим богословским комментарием. Но прежде надо раскрыть, что именно понимал о. Кирилл в этом утверждении.
Во-первых, о. Кирилл понимал, что прямолинейная трактовка его утверждения может произвести впечатление, что воспроизводится некая утонченная версия панпсихизма. Но это только по форме. Если внимательно прочитать подстрочечное замечание на той же странице (91), что и воспроизведенная выше цитата, то становится понятно, что речь шла о другой форме изложения того, что в богословии называют пан ен теизмом17. Панентеизм, в отличие от классического пантеизма, исходит из того, что мир находится в Боге, но содержание мира не исчерпывает полноту Божественного бытия. Известны разные формулировки панентеизма в святоотеческом богословии, например, в учении св. Афанасия Александрийского о том, что мир укоренен в Божественной Воле; в учении прп. Максима Исповедника о том, что мир «подвешен» в Божественном Логосе с помощью маленьких логосов; в учении св. Григория Паламы о том, что Бог присутствует в мире в своих энергиях… Однако для лучшего понимания того, что хотел сказать о. Кирилл, как мне кажется, подходит другой богословский язык, восходящий к учению Леонтия Византийского в контексте христологических споров VI–VII вв. Обобщая, речь идет о во-ипостасности (или воипостазированности) мира в личности Логоса- Слова- Сына Божия18.
Выражение во-ипостасность (или воипостазированность) можно описать так: «бытие, существование в ипостаси или личности», «существование в чем-то или ком-то, или присущность чему-либо или кому-либо». Поскольку мир, логическую структуру которого мы понимаем с помощью науки, сотворен личностью Логоса- Сына Божьего, можно говорить, что тот фактический мир, данный человеку в познании, несет на себе отпечаток личности Логоса. Это то, о чем говорит о. Кирилл, когда называет мир логоносным. Мир существует в личности Логоса- Творца, ибо он сотворен им и поддерживается им.
То есть он во-ипостасен в Логосе, или воипостазирован Логосом. Такое понимание согласуется с тем, что пишет о. Кирилл, когда говорит о мире как психике Творца. Я бы немного изменил его формулу и сказал, что мир является содержанием психики Творца. Так же, как мир во-ипостасен в Творце. Во-ипостасность не означает, что мир обладает своей собственной ипостасью. Мир сотворен, но сотворен Личностью и несет на себе отпечаток Личности, т. е. его содержание отражает Личность того, кто его сотворил, но сам мир при этом личностью не является. Естественно, что этой Личности не нужен никакой орган для того, чтобы прикоснуться к миру.
Сотворение и существование мира как «во-ипостасного» можно понимать в двух смыслах: 1) мироздание просто как природа имеет свое начало в ипостаси Логоса; 2) само знание этого человеком может быть достигнуто только в том случае, если природа созерцается в человеческой ипостаси (которая в свою очередь существует в Ипостаси Логоса). Таким образом, Вселенная обретает черты «во-ипостасности» в двояком смысле: в Логосе Божием, который приводит материю к бытию посредством произносимых Им слов (и текстов Книги Природы), и в ипостасном человечестве, которое, изучая и раскладывая эту материю на составные элементы, т. е. прочитывая слова Книги Природы, прокладывает путь к осознанию смысла и назначения ее, как реализованного бытия в Боге и для Бога. В этом смысле можно утверждать, что человек участвует в со-творении Вселенной: мир приводится к артикулированному существованию как осмысленное и само-сознающее бытие в личности человека. Раз мы осознали Вселенную в ее связи и единстве с Логосом, она становится для нас чем-то б о льшим, чем «просто мир, где мы живем».
Из того, что сказано выше — а именно, что присутствие Бога в мироздании можно проследить только в во-ипостасном модусе существования мира, — становится ясно, что наука тесно связана с осознанием тварной природы вещей и их основания в произнесенных словах Личного Бога, и ее нельзя полностью оторвать от богословия, т.к. по своей функции наука говорит об участии человека в творении, и через него — о его участии в отношениях между миром и Богом. Данные отношения осознаются тварным человеком, который является неизбежным участником этих отношений.
Таким образом, исследования в области физики и их богословские обобщения не могут не принимать во внимание сознание, которое составной частью входит в общий космический баланс, приводящий в движение всю Вселенную. Тогда ясно, что любое познание вещей и их конечных основ должно включать субъекты познания во всей полноте их человеческой конституции. Религиозные выводы из результатов науки, сделанные в такой перспективе, включают в себя ипостасное измерение, указывающее на источник «персонализированного» существования всего, т. е. на Бога. Посредничество между наукой и богословием тогда обретает сильное антропологическое измерение, выявляющее тот факт, что оба пути познания Божьего творения — дискурсивный через науку, а также мистический и литургический через религию, имеют общий источник — человеческую субъективность и духовность, которые выражают существо человеческого бытия в мире в Божественном Образе.
Свой тезис о том, что мир является психикой Творца, о. Кирилл связывает с тем, что для того, чтобы наука обладала полнотой описания мира, она должна уметь описывать сознание, понимаемое не только как сознание человека, но и как то, что мир пронизан сознанием Творца и выражает его содержание. Проблема Вселенной, т. е. факта ее существования, напрямую связана с проблемой существования сознания. По сути, отделить сознание от Вселенной невозможно, поскольку сама Вселенная существует в сознании (психике) Творца.
То, что Вселенная трактуется о. Кириллом как содержание психики Творца, вносит вклад в другую проблему, а именно, в проблему происхождения жизни во Вселенной. Жизнь человека во Вселенной является следствием того, что Вселенная пропитана психическим другого, абсолютного существа. Конечно, это не снимает остроту эмпирического факта, что мы не наблюдаем признаков разумной жизни во Вселенной, кроме нашей. Но важно то, что современная наука продвинулась в своем изучении природы до уровня, когда «физическое соприкасается с психическим». А отсюда следует, что дальнейшее понимание мира требует соотнесения фундаментальных структур, открывающихся в сфере микромира, со структурами человеческой психики19. Другими словами, сама наука подводит человека к необходимости создания синтеза физики и психологии для того, чтобы утверждать, что мир раскрывается человеку в его полноте, его основание и смысл могут быть соотнесены через опыт общения человека с Творцом.
Именно этот последний момент представлял особый интерес для о. Кирилла, который подробно исследовал спектр идей о соотношении физического и психического в диалоге Вольфганга Паули и Карла Густава Юнга20. Познание мира можно описать как единство процессов усвоения знаний о внешнем мире и выведение из сокрытости тех знаний о том мире (оламе), который вложен в сердце человека. Это было понято еще отцами Церкви21. Это также было позднее выражено многими мыслителями, в частности, космологами в наше время, а именно, что исследуя Вселенную, человек узнает очень много интересного о самом себе, приближаясь к осознанию сложности установления конечных истин о человеке.
То, что мир является содержанием психики Творца и то, что человек в образе и подобии последнего способен познавать этот мир, как бы взаимодействуя с природой на сознательном уровне, не гарантирует, что человек в своем технологическом освоении мира не может злоупотребить даром Божественного образа и использовать науку во вред как себе, так и всей планете. А потому проблема сознания выступает здесь с особой остротой, ибо человек неизбежно сталкивается с необходимостью согласования потенциально бесконечных возможностей своего сознания с конечными физическими условиями существования этого сознания. Кроме способности познавания, сознание должно быть этическим, чтобы, познавая и изменяя физические объекты, оно оставалось в четком понимании, что возможность его функционирования зависит от необходимых физических условий на Земле. Так в познание входит этика, когда мир как содержание психики Творца (его логический образ) выявляет в себе истинные имена Творца, такие как Любовь и Благо. Такое познание уже не будет «объективным», как не затрагивающим человеческой души, но может стать духовным деланием, открывающим дорогу человеку для преображения собственного естества22.
Отец Кирилл подчеркивает, что подобное освоение мира, в котором внешнее познание и внутренний опыт бытия взаимно дополняют друг друга и приводят к преображению человека, радикально отличается от проникновения знания в просторы космоса, ибо последний пуст и мы не находим в нем ничего человеческого. Отец Кирилл неявно противопоставляет внешний физический космос внутреннему космосу человеческой души. В связи с этим он отстаивает точку зрения, что квантовая механика как наука о микрообъектах позволила увидеть «психическое измерение» бытия, напоминающее «внутреннее пространство» души, в котором пребывает наше «я». То есть современная физическая наука, сама того не понимая, вскрывает в человеке тот внутренний мир, то «место, где» человек находится как сотворенный Богом. Он находится в Боге, являясь очень специальной разновидностью Его творения. Но тогда смысл научного поиска может быть охарактеризован как прославление Творца, как благодарность Ему за то, что дав человеку способность познавать мир с помощью науки, Бог также позволил человеку осознать, что история познания внешнего мира является «концом пред-исто-рии», ибо «подлинная — сверхновая, по настоящему Большая, Универсальная история человека и человечества — история, которая разворачивается в том «внутреннем» мире, который собственно и является подлинно человеческим миром, — только еще начинается»23.
Именно в этом и состоит богословский смысл науки: она, несмотря на то, что занимается изучением внешнего мира (необходимого для существования человека), приводит человека к в и дению того, что бесконечная загадка существования и таинственный путь ее разгадывания находятся в глубинах человеческого духа, в которых прошлое, будущее и вечное объединены.
Нетрудно видеть из сказанного, что наука и богословие в таком в и дении оказываются неразрывно связанными друг с другом, подчеркивая еще раз, что по истоку своего происхождения они укоренены в одном и том же человеке, о бытии которого невозможно говорить без материального мира, в котором человек существует, и без его сопричастности Творцу в Его образе, благодаря которому познание мира становится возможным.
От квантовой механики к психичности мира и психике Творца
Богословская ориентация мышления о. Кирилла состояла в том, что он отстаивал взгляд, что мир не является только материальной явленностью мышлению человека, но что он сам по себе обладает элементами психичности просто в силу того, что эти элементы являются содержанием психики творца.
Однако вечная философская проблема о взаимоотношении сознания и материи никуда не уходит, ибо фактичность сознания в теле человека является неэксплицируемым наукой фактом. По сути, эта проблема и была в центре внимания о. Кирилла. Но подход к ее осмыслению у него был двусторонним: со стороны богословия и со стороны собственно науки.
Как считал о. Кирилл, наука (в частности, современная квантовая физика) дает средство для того, чтобы продемонстрировать психичность мира безотносительно к ссылке на внемировое основание. И в этом особую роль играет квантовая механика, интерес о. Кирилла к которой объяснялся его главным желанием: показать, что психические элементы мира могут быть обнаружены при изучении квантовой теории, и в конечном итоге физическое и психическое мира не может быть строго разделено. Я возьму на себя риск воспроизвести и прокомментировать мысли о. Кирилла, опубликованные в его статье в совместно редактируемом томе о материи и сознании: “The Biblical Thesis of Creation of the world ex nihilo, the Heisenberg Cut, Quantum Blindness, and the T-chism of the Universe — a Final Solution to the Hard Problem of Consciousness” («Библейский тезис о творении из ничего, разрез Гейзенберга, квантовая слепота и психизм вселенной. Конечное разрешение трудной проблемы сознания»)24.
Квантовая теория представляет собой экстремальный случай, когда результат измерения некоторого параметра микрообъекта оказывается в определенной мере зависимым от того, как это измерение организуется практически, т. е. в контексте целевых установок субъекта измерения. Но необходимо признать, что и в классической механике субъект тоже присутствует в описании реальности. Классическая механика обнаружила, что открываемые ею динамические законы детерминистичны, что эквивалентно идее «сохранности» знания об изолированной системе, на основании знания состояния системы в некий момент времени теоретический субъект может предсказать её поведение в будущем и вычислить его в прошлом. Это может быть символически записано следующим образом: R (реальность) → S (состояние системы, описываемое субъектом теории), т.е. реальность выступает тем, что инициирует ее систематический образ в субъекте описания. Это просто понять, если рассмотреть переход от траектории частицы в физическом пространстве-времени к ее представлению в фазовом пространстве. Первое — реальность, второе — представление теоретического субъекта. Однако начальные условия для этой траектории не являются частью динамики, а ставятся либо наблюдателем, либо просто случайны. Именно поэтому теоретический субъект присутствует дважды — не только как моделирующий реальность, но и как определяющий ее исходную конкретность (случайность, в философском смысле как неопределенность за рамками каузальности). Поэтому сказать, что субъекта нет в реальности R, можно только в предположении, что сама исходная физическая ситуация не предполагает его присутствия. Это так, например, при наблюдении обращения планет вокруг Солнца. Но даже в этом случае необходима точка привязки их орбит к чему-то, что позволит их сравнить и, тем более, рассчитать их взаимное расположение. Субъект должен сделать этот выбор, т. е. зафиксировать исходную случайность в их взаимном положении.
Когда исследователь производит наблюдение (измерение) над изучаемой им системой, он лишь подтверждает соответствие знания о состоянии системы реальной ситуации, и потому никак не влияет ни на саму систему, ни на её состояние (при условии, что начальные условия сформулированы). В этом случае происходит как бы обратный переход: от представления реальности в теоретическом субъекте назад к физической реальности: S → R. Но и в этом случае ситуация не настолько однозначна. Например, если мы контролируем начальные положения планет или искусственных спутников Земли, мы можем рассчитывать их положения в будущем практически неопределенно. Это возможно до тех пор, пока не включаются эффекты внутренней гравитационной динамики, требующие корректировки орбит. Это означает, что реальность R требует своей уточняющей конституции, выходящей за рамки законов Кеплера, вносящих вклад в S. В общем можно сказать, что возникает взаимно-однозначное соответствие внешней реальности (R) и её представления — (ментального) образа (S) системы в теоретическом субъекте. В этом случае говорят, что знание о системе объективно. Символически это может быть представлено так: R ↔ S. Если быть более точным, взаимно-однозначное соответствие достигается в контексте того, что человек изучает физическую систему, а изучая, он ее моделирует, и его модель позволяет еще глубже, вследствие подгонок и уточнений, эту реальность определить. То есть формула R ↔ S есть идеал, как сжатая форм итераций: R→S→R’→S’→R’’→S’’……., которая выражала бы бесконечное продвижение познания. В такой форме мы уйдем от радикального противопоставления физической реальности (как объекта) субъекту. С феноменологической точки зрения такое противоположение вряд ли достижимо из-за того, что все «объекты» конституируются субъектом (например, через определенный выбор начальной конфигурации или исходного наблюдения). Другое дело, как? В классической физике бесконечным продвижением, в квантовой — радикальной связкой и неразделимостью между субъектом и объектом.
Если уйти от этих тонкостей, то можно утверждать, что состояние системы как элемент ментального пространства субъекта «объективно» в том смысле, что существует взаимно-однозначное соответствие между внешней реальностью и её образом в субъекте. Необходимо, однако, признать, что такой радикальный реализм является идеалом, ибо во многих случаях он недостижим из-за ограниченности вычислительного синтеза в отношении классических объектов. При этом такая ограниченность является антропологическим и просто техническим фактом. Но состояние как ментальный конструкт также и «субъективно» в том смысле, что это часть внутренней ментальной реальности субъекта теории, а не внешней физической реальности.
В нерелятивистской квантовой механике существуют два способа представления внешней реальности (изолированной системы) в теоретическом субъекте. Квантовомеханической системе сопоставляется волновая функция (вектор состояния) в абстрактном гильбертовом пространстве, обозначаемый Ψ. Предполагается, что она дает полное описание квантовой системы.
Динамика эволюции квантовомеханической системы определяется дифференциальным уравнением (Шрёдингера), которому подчиняется ее волновая функция. Такая эволюция каузальна, т. е. при данных начальных условиях результат изменения согласно этому уравнению вполне предсказуем. Это означает, в соответствии с критериями объективности в классической механике, что знание о системе «объективно» в том смысле, что существует ментально определенное соответствие между внешней реальностью и её представлением (т. е. конструктом): R → Ψ. Немного фигурально можно сказать, что квантовая реальность возбуждает в субъекте теоретический образ в виде волновой функции (или вектора состояния).
Но в отличие от классической механики волновая функция как абстрактный математический объект не наблюдаема, и статус ее реальности с точки зрения физики по сей день остается предметом многочисленных дискуссий. Другими словами, переход в представлении физика-теоретика от реальности в пространстве и времени к объекту в математическом пространстве (R ^ Ф) не допускает простого обращения, т.е. нет непосредственного способа сопоставления волновой функции с какой-либо сущностью в эмпирическом пространстве и времени: Ψ →/→R. Действительно, поскольку волновая функция является конструктом, ее соответствие с реальностью осуществляется лишь ментально, т. е. соотнесение онтологии эмпирической реальности и онтологии гильбертова пространства может быть делом только интеллекта. Волновая функция является средством вычислительного синтеза, но метод как таковой не может быть взят за реальность.
Наблюдаемыми в квантовой (как и в классической) механике являются координата, импульс, энергия. Но в квантовом случае результаты измерений этих наблюдаемых представляют собою вероятностные распределения, которые опять являются средством описания, но уже не в абстрактном пространстве функций, а на уровне опыта измерения в пространстве и времени. Наблюдаемым физическим величинам (доступным через измерительные приборы) опять соответствуют абстрактные математические представления с помощью линейных операторов, применяемых к волновой функции в гильбертовом пространстве. Вероятность обнаружения системы в том или ином состоянии (т. е. с теми или иными значениями координаты, импульса или энергии) равна квадрату модуля амплитуды вероятности, представляющей собою коэффициент разложения вектора состояния по набору собственных векторов оператора измеряемой величины (координаты, импульса или энергии). Другими словами, с одной стороны квантовая система описывается абстрактным математическим объектом, но когда речь заходит об измерении каких-то параметров этой системы в эмпирическом пространстве и времени, возникает другой язык — язык вероятностей как вещественных чисел, соотносимых с обычным опытом. Символически такой переход можно изобразить так: R ^ P (где символ P означает вероятность как эмпирически оцениваемое число).
Обратим внимание, что оба способа представления того, что полагается сознанием как внешняя реальность, в теоретическом субъекте являются элементами его ментального пространства. Но эти элементы разные: с одной стороны, образ реальности представим как абстрактный (ненаблюдаемый)
математический «объект» Ф, а с другой стороны, — в виде действительных чисел, измеряющих вероятность исхода измерения P.
Теория описывает раздвоение реальности следующим образом. В результате процедуры измерения происходит то, что называется «редукций волновой функции»: состояние квантовой системы (с её образом в ментальном пространстве субъекта как Ф) мгновенно (с некоторой предсказуемой вероятностью) переходит в новое, экспериментально обнаруженное состояние, которому соответствует уже новая волновая функция состояния. С одной стороны, происходит редукция волновой функции в абстрактном математическом пространстве, с другой стороны, возникает результат измерения, выраженный на языке математики действительных чисел и сопровождаемый априорной вероятностной оценкой его. Причём результаты эксперимента зависят от вида конкретного эксперимента и демонстрируют вариативность, описываемую на вероятностном языке. Это означает, что вся сущность природы (квантовой реальности) в явлениях себя не исчерпывает. Как уже говорилось выше со ссылкой на о. Кирилла, он описывает ситуацию, как если бы квантовая реальность обладала бы неким «внутренним измерением бытия»25. Можно сказать, что это внутреннее измерение бытия присуще всем ситуациям, в которых невозможны наблюдения и измерения в терминах этого бытия. Мы сталкиваемся с некоей неразличимостью в состоянии системы, пока не приводим ее во взаимодействие с измеряющей аппаратурой. При этом это «внутреннее измерение» проявляется в экспериментальной ситуации в том, что результаты экспериментов не могут быть предсказаны однозначно, но лишь с некоторой вероятностью. Далее о. Кирилл говорит, что возникает ощущение, что там, «внутри» квантовой реальности, существует некий аналог «внутренней свободы», своего рода «про-из-воление» мироздания, «на поверхности», проявляющее себя при проецировании на внешние средства измерения. Здесь естественно возникает вопрос: говоря о свободе, произволении и т.д., подразумевается субъект — но кто он? Сама природа, Бог или человек?
Отец Кирилл проводит аналогию между таким необычным присутствием внутренней жизни природы и психикой. Аналогию, в частности, квантовой механики с психологией, изучающей внутреннее измерение бытия человека, оставаясь внутри сознания. Эта аналогия подкрепляется в логике о. Кирилла наблюдением, что как в квантовой механике, так и в психологии измерение (наблюдение), как правило, радикально меняет состояние исследуемой системы. Далее он высказывает гипотезу, что квантовые объекты ведут себя так, как если бы они обладали некоторым внутренним «субъективным» измерением бытия. Естественно, вновь встает вопрос о том, кто является носителем такой субъективности. Или, может быть, язык субъективности, примененный к физической реальности, является просто человеческой проекцией, когда нечто непредсказуемое трактуется как деятельность интенциональная, а не каузальная.
В квантовой механике, когда полного знания о физической системе у наблюдателя нет, измерение, производимое над системой, изменяет представление наблюдателя о реальности, а значит, изменяет состояние системы вместе с представлением о реальности в теоретическом субъекте. После того, как наблюдатель произвёл измерение и приобрёл новое знание о системе, он строит новую волновую функцию системы и её дальнейшая детерминистическая (а значит, «объективная») динамика определяется этим новым состоянием — новым знанием теоретического субъекта. Теоретический субъект также может создавать квантовую систему в состоянии, соответствующем его знанию, и её дальнейшая динамика также будет подчиняться детерминистическому уравнению эволюции, и это будет означать, что такое сконструированное состояние будет объективным. Теперь о. Кирилл делает радикальный вывод: таким образом, нерелятивистская квантовая механика свидетельствует о том, что само знание о системе, будучи субъективным, по природе совпадает с состоянием системы и тем самым является объективным. Как мы уже упоминали выше, такой результат, по мнению о. Кирилла, выглядит шокирующим!
«Оказывается, что та реальность, которую мы привычно считаем “физической” и “объективной”, на самом деле ^-хична (пси-хична), а значит “субъективна”, обладает неким “внутренним измерением бытия”, проникнуть в которое “снаружи” посредством объективных методов познания мы не можем, но которое проявляет себя вовне в виде своего рода про-из-воления квантовых объектов, описываемом на вероятностном языке!»26.
За этим следует обобщение, что интерпретация квантовой механики в широком смысловом контексте, подразумевающем наличие теологического дискурса, позволяет символически резюмировать её суть следующим образом: ф а ^, где ф символизирует фи-зическую реальность, ^ — реальность пси-хиче-скую, а знак ≅ означает тождественность. Обратим внимание, что вся логика квантовой механики была использована о. Кириллом для того, чтобы оправдать его интуицию о том, что бытие «двухсоставно в единстве» материального и идеального и что современная физика подводит нас к осознанию этого.
Далее встает вопрос о психичности мира уже в богословском смысле. А именно, если мир являет собой некое интенциональное произволение (т. е. как определенный дизайн), кто стоит за ним, т.е. кто является его субъектом? И здесь мы приходим к уже обсужденной выше идее о тварном мире как содержании психики Творца. Именно конкретность мира в плане того, что в нем существует человек и было возможно воплощение Бога во плоти, указывает на то, что эта психика не безлична, а архетипически Христова, эксплицируя двойственное положение Христа в мире как его Творца, но и как составной части мира в человеке Иисусе из Назарета. Это психика Автора двух Книг — Откровения и Природы. Истинный Автор открывает нам Свой взгляд на Вселенную — взгляд «извне» и «изнутри» бытия. Но Библия свидетельствует о сотворении мира Богом из ничего Словом Своим. Если человек хочет понять содержание этих слов, т. е. «текст мира», он должен попытаться занять позицию Творца, по образу Которого он был создан, и найти способ понимания языка, стоящего за словами творения.
Есть ли в человеческом опыте что-то, сопоставимое с опытом творения из ничего, творения словом и творения, переживаемого самим творцом «изнутри»? Согласно о. Кириллу, единственный известным человеку опытом творения «из ничего» является математика. Несмотря на то, что математика изначально возникла из практики, в ней были созданы идеальные мысленные объекты, которые начали жить собственной жизнью. «Чистое» творение математики, к которому стремится «идеальный» математик, означает отказ от использования каких-либо понятий, возникающих в результате взаимодействия с внешней реальностью. Отец Кирилл пишет, что «чистое творение» математики синонимично творению «из ничего». Математик начинает своё творение «чистой» математики, отрываясь от любой внешней реальности и поворачивая своё сознание внутрь себя, где ещё ничего нет. Само формулирование задачи, осознание этого «ничего» порождает понятие «ничто», которое уже не «ничто», а некое понимание, т. е. «нечто» — пустое множество. Создание пустого множества объектов из ничего — это первый акт творения.
Последующие акты построения математической Вселенной — это уже не творение из ничего, а творение из ранее созданных математических конструкций. Примечательно, что именно слово оказывается «инструментом» построения математической Вселенной. Построение математической теории, например, евклидовой геометрии или, как в данном случае, теории множеств начинается с формулировки начальных аксиом. По сути, математик-творец воспроизводит творческий акт Бога (когда Бог говорит: «Да будет...»), постулируя систему аксиом.
Вероятно, те фундаментальные принципы, которые «работают» в процессе математического творчества, универсальны для всех людей. По-видимому, эти фундаментальные «математические принципы творения», если можно так выразиться, глубоко «вшиты» в психику человека, созданного по образу Творца Вселенной. Но именно из-за этой «глубины» они трудны для обнаружения; поэтому трудно сформулировать фундаментальные начальные аксиомы математики. Очевидно, именно благодаря этой универсальности «генетического кода» той части души, которая «отвечает» за математику, «субъективная» математика оказывается единой для всех людей. Более того, оказывается, что математические конструкции, возникавшие вне всякой практической цели, оказываются идеально пригодными для описания реального мира, созданного Тем, по образу Которого был создан человек. Тот факт, что современная наука познает мир на математическом языке, дает повод утверждать, что человек способен видеть мир из позиции творца.
Исходный тезис о двух Книгах Бога утверждал, что изучение Книги Природы даёт ключ к более глубокому пониманию Писания. Главный результат, полученный при изучении Книги Природы, состоит в том, что она написана на языке математики. Математика создаётся словом «из ничего» в разуме математика-творца. Она создаётся по образу Творца Вселенной. Поразительное соответствие между внутренней («психической») математической моделью реальности и внешним физическим («материальным») миром на самом широком спектре масштабов приводит к гипотезе о том, что это соответствие не ограничивается только структурным сходством, но может быть распространено и на сферу онтологии. Об этом свидетельствует продемонстрированное о. Кириллом в контексте квантовой механики совпадение между субъективным знанием о системе и её объективным состоянием. Таким образом, придавая смысл тому, что мы теперь знаем из Книги Природы, приходим к выводу, что знание о системе, будучи субъективным, по своей природе совпадает с состоянием самой системы и, следовательно, является объективным. Здесь снова напрашивается вывод о том, что мир является содержанием психики (ψυχή) Творца.
Итак, научная картина мира дает повод к утверждению, что человек может занять эпистемологически позицию творца. Хотя мы всего лишь часть этого мира, нам возможно открывать «законы природы» как целого, потому что мы сотворены по образу Божию, и весь мир вложен в сердце человека. Поэтому, находясь «внутри» Вселенной, мы осмеливаемся занять точку зрения, позволяющую нам ставить вопрос о замысле Творца.
В своих заключениях о. Кирилл подходит к еще одному радикальному заключению: применение выводов, сделанных ранее из анализа квантовой механики в библейско-богословском контексте (двух взаимодополняющих Книг Бога — Библии и Книги Природы) позволяет выдвинуть тезис, что материи не существует, что есть только мысль — мысль Творца, создающего нас словом с нашим умом по Своему образу, чтобы, познавая мир, мы мыслили изнутри Его мысли и тем самым становились участниками Его мышления. Мне кажется, что это высказывание следует понимать так, что материи не существует как самой по себе, т. е. как отличной от ее воипостазированных форм. Тогда смысл его можно понять как то, что все сотворенное Богом содержит элемент Его Личности, даже несмотря на то, что человек может воспринимать творение, как если бы эта Личность не присутствовала. При таком понимании познание мира действительно является обменом между мыслями человека и мыслями Творца, заложенными в вещах мира. То есть, выражаясь по-иному, человек неспособен увидеть в вещах мира того, что не было сообщено этим вещам произволяющим словом, мыслью Творца.
И последний момент в рассуждениях о. Кирилла, требующий обсуждения, сводится к вопросу: если мир — это психика Творца, значит ли это, что Бог постоянно контролирует всю Вселенную, так же как мы контролируем поток нашей психической жизни? Следует ли из этого, что у человека нет свободы, и всё предопределено только волей Всемогущего?
Отвечая на этот вопрос, о. Кирилл прибегает к традиционному библейскому антропоморфизму. Поскольку в человеческой психике можно различать две взаимодополняющие сферы — сознательное и бессознательное, и поскольку человек создан по образу Творца, правомерно ставить вопрос о «бессознательном» Бога. В контексте библейской традиции небо и земля представляют собой два «полюса» Вселенной. При этом небо — это «престол Бога», «место» Его присутствия (хотя и «небо небес не вмещают» Его), а земля — удел человеческого существования. Небо отделено от земли посредством тверди, на которой Творец помещает светила, чтобы отделять день от ночи и служить знамениями и временами, и днями, и годами^ На самом деле твердь — это «место» существования законов, управляющих тем, что на земле. Таким образом, земля (сфера сотворённого мира) подчинена воле Всемогущего не напрямую, а опосредованно через законы, которые Он установил.
Далее о. Кирилл ссылается на слова молитвы «Отче наш», данной самим Иисусом ученикам: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе», чтобы сделать следующий вывод. Эти слова указывают на то, что в данный момент на земле нет прямой воли Божией. То есть у человека остается свобода и не все предопределено волей Творца. В земном мире остаются степени свободы от жесткого присутствия Бога как раз в той степени, в какой все творение является свободно-обусловленным. Но даже на фоне такой свободной сотворен-ности мира он все же обладает признаками необходимости по факту замысла Творца о Воплощении своего Сына — Божественного Логоса. В содержании законов физики выявляются необходимые условия для существования человека и возможности Воплощения, но они не являются достаточными. Именно в этом смысле мир, воипостазированный Логосом, т.е. мир, имеющий непосредственное отношение к психике этого Логоса, все же остается свободным в своей реализации в соответствии со свободой творящей его Любви.
Отсюда следует важный вывод. Познавая психику Творца через научное исследование мира, мы по-прежнему оставляем зазор между нашим пониманием актов и намерений, стоящих за Его психикой, и тем, что мы вынуждены списывать на наше принципиальное непонимание в отношении Творца как Всемогущего, Непознаваемого, Бесконечного и т. д.
Заключение
Если присмотреться внимательно к тому, как о. Кирилл пытался осуществить свой синтез науки и богословия, мы заметим два встречных направления мысли. С одной стороны, от науки к богословию, а с другой стороны, от богословия к науке. Прослеживая историческое развитие науки и придерживаясь точки зрения, что наука обслуживала интересы богословия, мы понимаем, что другого и быть не могло, ибо богословие должно было обосновывать саму фактическую возможность самого себя. А она проистекала из наличия богословов, т. е. живых людей в реальном физическом мире. То есть богословие вынуждено было включать в свою орбиту представления о физическом мире, чтобы его учение о мире было согласовано с физическими условиями возможности такого учения. Это касается наук о мире на больших масштабах, например, на масштабе Земли, на которой начиналась христианская история, но это также касается и наук о микромире, которые лежат в основании возможности человека как биологического вида. В этом смысле квантовая механика, которая была в центре интереса о. Кирилла, является базовой дисциплиной, ибо она описывает те структурные элементы реальности, из которой состоят тела богословов.
Однако этим не исчерпывается роль науки, ибо она также описывает процесс взаимодействия человека как психосоматического существа с миром. Наука говорит не только то, из чего состоит человек, но и как он взаимодействует с миром. Наука вскрывает структуры субъективности человека, тем самым показывая, что между человеком и миром имеется «психическое» взаимодействие. Наука показывает неоднозначность и хрупкость любого конечного определения границы между физическим и психическим. Отец Кирилл считал, что квантовая механика непосредственно это демонстрирует.
Однако во всех таких рассуждениях остается без ответа вопрос о том, как человеку (физическому организму) возможен доступ к такой сложной структуре мира. Что в его состоянии не является физическим и позволяет осуществлять обозрение мира из внешней позиции. Здесь вступает в силу обратное движение мысли — от богословия к науке. Способность обозревать мир как бы извне требует обращения к представлению о божественном образе в человеке, т. е. образе Творца мира. Это означает, что если мир является содержанием психики Творца, то возможность артикуляции этого содержания проистекает из того, что человек архетипически обладает способностями обозревать весь мир как бы из позиции творца. То есть сама возможность науки проистекает из сопричастности человека Творцу просто по факту существования человека. Но в этом случае наука получает интерпретацию как модус сопричастности человека Творцу. И в процессе научного исследования человек со своей стороны детектирует присутствие в мире признаков «психики» Творца. Используя формальный богословский язык, человек как воипостазированная Логосом ипостась оказывается в позиции (через изучение мира) обнаружить признаки своей собственной воипостазированности, т. е. в конечном итоге признаки того, что все мироздание во-ипостасно в Творце.
В мысли о. Кирилла наблюдаются как признаки естественного богословия — отличительной чертой которого является построение заключения о существовании Творца из наблюдений закономерностей внешнего физического мира, — так и признаки, если так можно выразиться, богословия (теологии) науки. Если традиция естественного богословия восходит к временам патристики и представлена практически в каждой крупной философской системе прошлого, то тематика богословского обоснования науки, о котором ратовал о. Кирилл, является достаточно редкой. Сами ученые вряд ли согласились бы с таким подходом к выяснению смысла науки. Но для о. Кирилла острота такой постановки проблемы была связана с проблемой сознания человека, лежащего в основе всех научных построений. А поскольку сама наука не в силах эксплицировать возможность функционирования ипостасного воплощенного сознания, богословие берет на себя функцию если не экспликации, то по крайней мере интерпретации такой возможности, исходя из веры в сопричастность человека Творцу.
Нельзя сказать, что оба описанных встречных направления мысли не сопряжены с проблемами. Что касается естественного богословия, то его фундаментальная критика была осуществлена И. Кантом более двухсот лет назад и до сих пор остается непреодолённой на уровне разумной способности сознания. Что же касается богословия науки, то и этот подход требует исходного эпистемологического допущения о примате веры в Творца, в рамках которого возможна критическая рефлексия по отношению к науке как уже сложившемуся продукту человеческой мысли. Однако при этом сама фактичность мышления остаётся неэксплицированной.
Здесь уместна аналогия с феноменологической философией, где нередко поднимается вопрос о приоритете между естественными и гуманитарными науками. Ответ, как правило, склоняется в пользу гуманитарных наук, поскольку именно они эксплицируют работу сознания и тем самым включают в себя всё содержание естественных наук как артикулированного мышления и текста. Однако при этом остаётся неясной сама возможность существования гуманитарного знания. Разумеется, оно предполагает выполнение определённых физических условий, необходимых для существования субъектов, создающих нарратив о мире. Но сама артикулированная форма этого нарратива проистекает из специфически гуманитарных способностей человека.
В «богословии науки» наблюдается сходная ситуация, когда обсуждается соотношение двух нарративов — богословского и научного, и предпринимается попытка установить их иерархию. Как мы уже видели, определить приоритеты без обращения к «прыжку веры» в сверхмировые способности человека оказывается практически невозможным. Таким образом, мы вновь оказываемся перед вечной философской проблемой соотношения веры и знания, из которой, по большому счёту, нет окончательного выхода. По мнению автора этих строк, такое раздвоенное состояние человека (между полюсом его сотворённости в физическом мире и способностью обозревать и осмыслять этот мир как бы с внешней позиции) является неотъемлемой чертой человеческого состояния. С богословской точки зрения, это состояние есть следствие того, что человек, будучи сотворённым в конечном физическом мире (на Земле), несёт в себе образ бесконечного Творца.
Подводя итог, можно утверждать, что научно- богословское творчество о. Кирилла Копейкина представляет собой оригинальный и значимый синтез науки и богословия, заслуживающий дальнейшего осмысления и систематизации. Хочется выразить надежду, что этот синтез найдёт своих последователей.