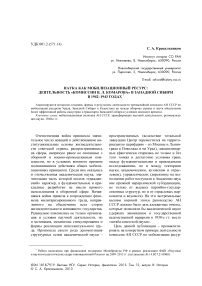Наука как мобилизационный ресурс: деятельность "комиссии В. Л. Комарова" в Западной Сибири в 1942–1943 годах
Автор: Красильников Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются механизм создания, формы и результаты деятельности чрезвычайной комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны в части обеспечения более эффективной работы индустрии и транспорта Западной Сибири в условиях военного времени.
Мобилизационная политика ан ссср, трансформация научной деятельности, регионализация науки, 1940-е гг.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218924
IDR: 147218924 | УДК: 001.2
Текст научной статьи Наука как мобилизационный ресурс: деятельность "комиссии В. Л. Комарова" в Западной Сибири в 1942–1943 годах
Отечественная война привнесла значительное число новаций в действовавшие институциональные основы жизнедеятельности советской страны, распространившись на сферы, напрямую ранее не связанные с обороной и военно-промышленным комплексом, но в условиях военного времени подчинившиеся действиям общих мобилизационных принципов. Среди них оказалась и отечественная академическая наука, значительная часть которой носила «гражданский» характер, а фундаментальные и прикладные разработки не имели прямого использования в оборонной сфере. Начавшаяся война привела к возрождению феномена милитаризированного труда, направленного на обеспечение всех сторон жизнедеятельности воевавшего государства. Радикально изменились не только организация и условия научной деятельности, но и мотивация, механизмы стимулирования и формы реализации интеллектуального труда. Произошла своего рода декомпозиция структурных основ академической науки – пространственных (вследствие тотальной эвакуации Центр переместился на территориальную периферию – из Москвы и Ленинграда в Поволжье и на Урал), дисциплинарных (фактически стиралась не только и без того тонкая и достаточно условная грань между фундаментальными и прикладными исследованиями, но и между секторами науки, академическим, вузовским и отраслевым), управленческих (директивы на выполнение работ поступали в Академию наук вне прежней иерархической субординации, не только от высших партийно-государственных структур, но и от отраслевых наркоматов и ведомств). На эти экстремальные вызовы военной эпохи руководство АН СССР должно было дать адекватные ответы, которые позволяли бы академической науке удержать завоеванное в государственной ведомственной иерархии в 1930-е гг. место «штаба советской науки».
Цель данной публикации – проанализировать на конкретном примере деятельности комиссии АН СССР по мобилизации ресур- сов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны, получившей краткое название по имени ее основателя и руководителя, президента Академии наук акад. В. Л. Комарова «комиссии Комарова» то, как новая функциональная миссия АН была реализована в региональном пространстве Западной Сибири в 1942–1943 гг. и каков оказался опыт и эффект работы комиссии для последующего развития научного потенциала в указанном регионе.
Создание и деятельность «комиссии Комарова», несмотря на свою значимость для организации науки периода войны, не стали предметом тщательного изучения историков. Специальные публикации о ней исчисляются единицами, принадлежащие перу Б. В. Левшина, фрагменты в обобщающих трудах по истории АН СССР носят справочно-информационный характер [Комков и др., 1974. С. 368–374; Левшин, 1966; 1977. С. 152–158; Козлов, 2003. С. 143]. Отмечаются направления и результаты работы, не раскрывая механизмов ее организации в Зауралье. Фонд комиссии, хранящийся в Архиве РАН, представлен в работах единичными сносками. Весьма информативным источником, содержащим взгляд на работу комиссии изнутри, явились дневниковые записи ее члена, акад Л. Д. Шевякова, опубликованные в 1961 г. 1
«Комиссия Комарова», учрежденная 29 августа 1941 г. после эвакуации руководства АН СССР в глубь страны со стационирова-нием ее в Свердловске, в первый период своей деятельности, до весны 1942 г., охватывала территорию Урала. Однако далее, по решению Общего собрания АН СССР с 8 мая 1942 г., комиссия расширила свою работу на сопредельные территории – Западную Сибирь и Казахстан. Состав комиссии на этот момент достиг 69 чел., в числе которых насчитывались 32 члена Академии наук. Для оперативного управления ее работой потребовалось выделить рабочий орган, бюро комиссии в составе 12 чел. (председатель – акад. В. Л. Комаров, зам. пред. акад. И. П. Бардин, Э. В. Брицке, А. А. Байков, В. А. Обручев и С. Г. Струмилин) [Левшин, 1977. С. 155]. Структурными подразделениями комиссии являлись группы (транс- порта, сельского хозяйства, цветной металлургии, энергетики, топлива, нерудных ископаемых), руководители которых входили в комиссию. В первом составе комиссии в нее входили представители от научных учреждений, вузов, наркоматов, ведущих предприятий, где территориальное присутствие от Урала было подавляющим. Так, если Уральский индустриальный институт имел двух профессоров среди членов комиссии, то томские и новосибирские вузы в комиссии представлены не были, а Западно-Сибирский регион представляли акад. С. А. Чаплыгин, председатель Новосибирского комитета ученых, а также руководители Сталинского металлургического комбината и управления Томской железной дороги 2. Через непродолжительное время в состав бюро на правах заместителя был введен известный ученый-горняк акад. А. А. Скочинский, который впоследствии, наряду с И. П. Бардиным и А. А. Байковым являлся координатором работ комиссии в Западной Сибири по различным направлениям развития производства в регионе.
В своей работе бюро комиссии опиралось на принцип деятельности бригад с выделением в составе последних тех или иных тематических, профильных групп ученых с выездом на места, на период в несколько недель для оказания консультационной и практической помощи предприятиям и учреждениям для интенсификации труда последних. Данный подход к организации научной работы в годы войны не являлся уникальным, а в значительной мере базировался на накопленном опыте функционирования академических структур в условиях межвоенного периода («чрезвычайные» выездные сессии АН СССР начала 1930-х гг., комплексные и тематические экспедиции Совета по изучению производительных сил (СОПС), комиссии для научного обеспечения крупных народнохозяйственных проектов и др.). В то же время комиссия не копировала полностью ни одну из названных организационных технологий, а в своих действиях придерживалась чисто мобилизационного алгоритма (директива – исполнение – результат) в пределах тех сроков, ресурсов и возможностей, которыми располагала сама комиссия или с использованием механизмов кооперации деятельности с раз- личными структурами – научными, управленческими, производственными и т. д.
Согласно емким формулировкам из отчета о работе комиссии в 1942 г. ее деятельность протекала в трех направлениях – «1) выявление дополнительных природных источников сырья и рекомендации по их использованию; 2) выявление новых резервов в процессе производства и оказание научно-технической помощи по увеличению мощностей и выпуску продукции, интенсификации и рационализации производственных процессов, замене дефицитных и дальнепривозных видов сырья и топлива; 3) специальные работы по оказанию непосредственной помощи оборонному производству» 3.
Написанию отчета предшествовало обсуждение опыта работы в 1942 г., состоявшееся 6 октября 1942 г. с участием ведущих ученых, членов комиссии. В выступлении секретаря комиссии И. А. Дорошева содержалась рефлексия тех принципов, которые обеспечивали дееспособность и эффективность работы комиссии в экстремальных условиях. Это, прежде всего, рационализм и прагматизм в работе самих ученых: находить дополнительные природные ресурсы и производственные резервы, которые не потребуют дополнительных крупных и длительных вложений, но способны дать в ближайшее время ощутимый производственный эффект 4. Тот же опыт показывал, что основными в деятельности комиссии оказались работы в так называемом отраслевом разрезе, т. е. по целевым заданиям таких крупных наркоматов, как угольная промышленность, черная и цветная металлургия и т. д. Несмотря на отраслевую «прописку», эти работы чаще всего требовали привлечения специалистов различных профилей, т. е. комплексности в решении поставленных задач. Так, повышение угледобычи требовало работ не только горняков, но и ученых – транспортников, энергетиков и т. д. То же касалось и ликвидации «узких мест» в работе предприятий металлургии, когда следовало оперативно изучать вопросы обеспечения заводов качественным сырьем, обогащения руды, освоения нового оборудования и т. д. Такую функцию «скорой научной помощи» производству и ре- шали комплексные бригады, которые формировались под эгидой комиссии.
Академик Э. В. Брицке определял успешность работы комиссии тем, что она оказалась выстроена иначе, чем традиционно работала АН: «Нам позволили сосредоточить по определенным вопросам наиболее компетентных и знающих людей, технически грамотных. Сила нашей комиссии в том, что нам удалось собрать около себя людей из институтов и целого ряда учреждений вне Академии наук. Таким образом мы подходили к каждому вопросу по возможности глубоко и с полным знанием дела с тем, чтобы выявить слабые стороны хозяйства…» 5. Брицке подчеркивал далее, что наделение комиссии чрезвычайными полномочиями и возможностями концентрировать под эгидой АН лучшие научно-технические силы влечет за собой другую проблему: быстрое и эффективное предложение для решения той или иной конкретной производственной задачи еще не означало столь же быстрого внедрения рекомендации ученых, и он считал важным обеспечение контроля за реализацией принятых решений. Как полагал известный ученый, разработки и рекомендации, даже получив «директивное направление», требуют «прослеживания за ними» со стороны руководителей тематических групп комиссии 6.
Сжатость сроков исполнения и обязательность достижения практических результатов (полученных или рекомендованных) накладывали жесткий отпечаток на деятельность комиссии и высокую ответственность за принимаемые решения. Согласно протокольным записям, бюро комиссии созывало свои заседания в 1942–1943 гг. с регулярность примерно в две-три недели.
«Сибирские вопросы» ставились и регулярно обсуждались на заседаниях бюро комиссии начиная с весны 1942 г.: работа комплексных бригад в Кузбассе под руководством акад. А. А. Байкова (март 1942 г.), акад. А. А. Скочинского (осень-зима 1942/43 г.); поездка акад. И. П. Бардина в Новосибирск для согласования работ комиссии с руководством региона (август 1942 г.) и др. Уже в период деятельности комиссии в 1942 г. сформировались приоритеты работ комиссии в Западно-Сибирском регионе, которые сохранили свое значение и в 1943 г. Среди них задачи увеличения добычи кузнецких углей, обеспечения Сталинского комбината рудным сырьем, эффективности работ предприятий цветной металлургии, устойчивости в предоставлении энергоснабжения предприятий региона, транспортировки угля на Запад 7.
Уже первая по времени своей работы в Кузбассе комплексная бригада под руководством А. А. Байкова продемонстрировала результативность деятельности специалистов различного профиля для увеличения производства на Белово-Салаирском цинковом комбинате: горняки и геологи дали рекомендации по увеличению добычи и доставки руды из открытого недавно Первомайского месторождения; были изысканы резервы для увеличения мощности производства цинкового концентрата на обогатительной фабрике; химики-технологи помогли освоению нового оборудования для получения цинка 8.
Внимательное рассмотрение всех возможных вариантов позволило группе под руководством проф. Р. А. Певзнера предложить ряд решений по расширению производства огнеупорных материалов на Сталинском металлургическом комбинате: возможность использования местной сырьевой базы огнеупоров избавило комбинат от завоза дальнепривозной глины из Казахстана на расстояние свыше 1 500 км; технология, предложенная учеными по производству доломита также сократила траты от завоза дальнепривозного магнезитового кирпича 9.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что «мозговая атака» при решении практических производственных задач оказалась высокоэффективной, особенно в тех случаях, когда были задействованы не реализованные в более ранние периоды варианты решения задач обеспечения предприятий близлежащим, пусть и менее качественным сырьем, имелись не использованные на полную мощность станки и оборудование; могли быть применены известные и более эффективные производственные технологии и т. д.
Так, применительно к угольной промышленности еще перед войной были достаточно хорошо известны «узкие места», сдерживавшие доведение угледобычи до проектных мощностей (последние не использовались почти наполовину). Но только чрезвычайные обстоятельства военного времени, которые привели к потере Донбасса и необходимости восполнить и увеличить добычу угля в восточных районах, подтолкнули к решению задачи мобилизационными директивными решениями, но при этом на комплексной основе, предложенной специалистами.
Благодаря обращению комиссии к руководству угольной промышленности, наркомом В. В. Вахрушевым 6 ноября 1942 г. был издан приказ о создании специальной группы из числа научно-технических и инженерных кадров, представлявших отраслевые и учебные институты, а также из числа управленцев комбината «Кузбассуголь» (всего около 80 чел.). Комиссию ученых представляли акад. А. А. Скочинский, Л. Д. Шевяков, проф. А. Е. Пробст и ст. науч. сотр. А. П. Судоплатов (последний работал в Прокопьевске с декабря 1942 по март 1943 г.). Бригады из ученых, специалистов и управленцев обследовали каждую из шахт, входивших в трест, устанавливая узкие места, тормозившие увеличение производственных мощностей, и разрабатывали конкретные, применительно к каждой из шахт мероприятия по увеличению добычи угля в краткие сроки и без значительных затрат. Важным в работе над решением проблемы увеличения угледобычи была ее связь с задачей вывозки кузнецких углей из региона на Урал и в другие районы страны. Над транспортной проблемой работала специальная группа под руководством акад. В. Н. Образцова и проф. Н. Н. Колосовско-го 10. Итогом интенсивной деятельности стал сводный доклад «Пути увеличения кузнецких углей», переданный наркомату угольной промышленности 10 апреля 1943 г. 11
Доложивший на заседании комиссии АН 30 марта 1943 г. о работе бригады в Кузбассе акад. А. А. Скочинский, помимо собственно результатов ее деятельности, поделился некоторыми своими впечатлениями, которые передают атмосферу того времени:
«Этот материал (выводы бригады. – С. К. ) был рассмотрен в комбинате у управляющего бассейном… вначале вопрос встретил большое сопротивление. В конце концов дело закончилось мирно, и они (управленцы. – С. К. ) просили только смягчить некоторые выражения, которые задевали отдельных лиц… и если потребуется, мы его (материал. – С. К. ) скорректируем…» Далее академик прокомментировал транспортную проблему: «Вывоз угля из Кузбасса в 1942 г. был чрезвычайно затруднен, там продолжительное время лежали горы угля, горевшего, и это крайне действовало отрицательно на психологию людей… Дальнейшие судьбы Кузбасса в смысле развития добычи, безусловно, упираются в транспорт. В настоящее время там началось опять скопление, причем, когда мы уезжали оттуда. Наблюдали такую картину, что вследствие недодачи тока там стояло 22 больших маршрута, и их нельзя было вывести» 12.
В то же время анализ ситуации, проведенной группой проф. Н. Н. Колосовского, давал основание считать, что транспортировку угля как фактор, лимитирующий его добычу, не следует переоценивать: «Железные дороги ограничивали добычу кузнецких углей во время войны в зимний период, когда сокращалась провозоспособность дорог. Но в летний период добыча кузнецких углей отставала от их вывоза. Следовательно, при правильной организации складского хозяйства, обеспечивающей рациональное хранение 1,5–2,0 месячных запасов угля, возможно увеличение его добычи, несмотря на неизбежные сезонные сокращения провозоспособности железной дороги» 13.
Сухой отчетный материал о работе одной из крупнейших комплексных бригад комиссии АН в Кузбассе дополнил своими дневниковыми записями акад. Л. Д. Шевяков. По его свидетельству, бригада выехала из Свердловска 16 февраля, вернувшись на Урал 27 марта 1943 г. С 19 по 21 февраля ученые провели совещания в Новосибирске с руководством комбината «Кузбассуголь» и Западносибирского геологического управления. С 22 февраля начался «кузбасский» этап работы бригады: Л. Д. Шевяков ознакомился с ситуацией в Прокопьевске, а А. А. Скочинский провел совещания и кон- сультации в Сталинске с руководством КМК о состоянии рудной базы для комбината. Двадцать третьего февраля Шевяков и Скочинский выехали на неделю вместе с группой геологов, горняков и металлургов в Горную Шорию для обследования рудников: «Работа шла дружно и интенсивно: днем осмотр шахт (в т. ч. подземных работ), вечером – совещания, ночью – переезды на новое место» 14. По возвращении из Горной Шории академики неделю провели в Прокопьевске, «за это время внесли дополнения и коррективы в подготовлявшиеся записки по углю, участвовали в заседаниях центральной комиссии, дали значительное количество консультаций по техническим вопросам». Вернувшись в Сталинск 8 марта, ученые в течение нескольких дней провели ряд совещаний, согласовав докладные записки о местной рудной базе для КМК. По итогам работы бригады в Кузбассе 16 марта состоялся доклад в Кемеровском обкоме партии, а 21 марта – в Новосибирске . Л. Д. Шевяков тонко резюмировал атмосферу на этих совещаниях: «16 марта состоялся наш доклад в Кемеровском обкоме ВКП (б). Председатель (первый секретарь обкома т. Зади-онченко) вел заседание беспорядочно, поэтому все присутствующие получили из наших сообщений значительно меньше полезных указаний и сведений, чем могли бы получить.
18 марта мы приехали в Новосибирск, где 21 марта сделали детальный доклад техническому совещанию при начальнике комбината Кузбассуголь (А. А. Шелков) о положении Кузбасса и мерах к поднятию его производительности. Это собрание было очень содержательным» 15.
В дневнике Л. Д. Шевякова есть примечательные свидетельства о проведенных во время поездки в Кузбасс встречах и обсуждениях идеи создания филиала АН в регионе: «Воспользовавшись пребыванием в Прокопьевске томских профессоров-горняков Н. А. Чинакала и Д. А. Стрельникова, – мы вместе с А. А. Скочинским обсудили с ними вопрос о желательности и возможных формах организации Сибирского филиала АН СССР […] 22 марта акад. А. А. Ско-чинский, я и В. М. Гальперин посетили председателя Новосибирского облисполко- ма т. Гришина и кратко рассказали ему о работах Академии наук в Сибири. Затем мы поставили вопрос об учреждении Сибирского филиала Академии, который, по существу, должен обслуживать все (или некоторые) сибирские области. Главная задача филиала – изучение производительных сил Сибири и координация научных сил. Тов. Гришин отнесся к нашим соображениям весьма сочувственно» 16.
В приведенных выше свидетельствах Л. Д. Шевякова фактически дается своего рода визитная карточка работы «комиссии Комарова» в 1942–1943 гг. с такими ее чертами, как экстраординарность, чрезвычайная интенсивность, мобильность и результативность. В то же время за всей оперативностью работ четко просматривалась и их нацеленность на перспективу, что проявилось в начавшейся весной 1943 г. серии консультаций внутри Академии и с региональными руководителями о стационарном вхождении АН в Западно-Сибирский регион.
Всего же в «Перечне наиболее важных работ, выполненных комиссией АН СССР» по заданиям директивных органов в 1943 г. на Западную Сибирь приходилось восемь крупных завершенных работ. Среди них пять относились к решению проблем развития угольно-металлургической базы, энергетики и транспорта Кузбасса 17.
В работах о «комиссии Комарова» остался нераскрытым вопрос о трансформации ее работы во второй половине 1943 г. в связи с началом реэвакуации коллективов АН СССР из восточных районов в Центр. Предусматривалась реорганизация Комиссии в структуру с охватом вновь освобождавшихся, центральных и западных территорий страны. На заседании бюро комиссии под председательством акад. И. П. Бардина 20 апреля 1943 г. было озвучено решение руководства АН СССР оставить Комиссию как действующий орган до осени в Свердловске. В то же время признавалось необходимым «производить постепенно передачу работ по организации и непосредственному выполнению части уральской тематики Комиссии Уральскому филиалу и Уральской комплексной экспедиции АН СССР» 18.
16 Люди науки на Урале в дни войны… № 4. С. 168, 169.
Весьма примечательное решение было принято относительно Западной Сибири: «Работу по Западной Сибири считать необходимым проводить на основе организации базы Академии наук в одном из промышленных центров Западной Сибири (Ста-линск или Кемерово). Просить Президиум Академии наук возбудить перед СНК СССР ходатайство об организации в составе Академии наук базы по Западной Сибири» 19.
Данное предложение следует рассматривать и оценивать двояко: в контексте активно развернувшихся с весны 1943 г. поисков путей и форм создания филиала АН в Западной Сибири, с одной стороны, и унаследованного от 1930-х гг. опыта обсуждения этого проекта – с другой. В частности, речь идет о заседании Президиума АН СССР от 15 февраля 1936 г., на котором с докладом «О создании в Западно-Сибирском крае филиала Академии наук» выступил акад. И. П. Бардин. Он предложил, используя благоприятную организационную ситуацию в связи с созданием в структуре АН нового Отделения (Отделения технических наук – ОТЕН), создать в регионе академическую структуру в Сталинске (Новокузнецке) на основе сибирских подразделений институтов Наркомтяжпрома (Механобра, геолого-разведочного и металлов). Участвовавшие в обсуждении акад. В. Л. Комаров, Г. М. Кржижановский, Э . В . Брицке, Н. П. Горбунов отнеслись к предложениям Бардина достаточно скептически. При этом выступавшие видели рациональное зерно в плане Бардина в том, что создание филиала в крупном угольно-металлургическом центре на востоке может дать усиление стратегических позиций Академии в иерархии государственных органов. Но при этом из тактических соображений академиками было предложено «занизить» ранг академической структуры до статуса «технической базы Академии наук» 20. Усилия Бардина в тот период не пошли дальше проекта, но очевидно, что уже в новых военных условиях подтолкнули его вернуться к отторгнутому в 1936 г. предложению и даже получить одобрение идеи «базы» от имени «комиссии Комарова». И хотя реальный ход и динамика обсуждения вопроса о филиале в Западной Сибири определялись уже не в Сверд- ловске, но важно, что один из позитивных импульсов к его успешному решению исходил из Комиссии.
Деятельность «комиссии Комарова» стимулировала регионализацию науки в ЗападноСибирском регионе, фактически способствовала формированию структуры, тематики и в определенной мере кадрового состава актива для создания ЗСФАН: ресурсоведческая ориентация институтов, соединение в одном институтском комплексе взаимосвязанных научных дисциплин, соединение в институтах потенциалов трех секторов науки и использование принципа территориальной рассредоточенности групп ученых, решающая роль в создании филиала референтной группы крупных ученых горногеологического профиля (А. А. Скочинский, Л. Д. Шевяков, Н. А. Чинакал).
IN 1942–1943
Список литературы Наука как мобилизационный ресурс: деятельность "комиссии В. Л. Комарова" в Западной Сибири в 1942–1943 годах
- Козлов Б. И. Академия наук СССР и индустриализация России. Очерк социальной истории. 1925-1963. М., 2003. 272 с.
- Комков Б. Д., Левшин Б. В., Семенов Л. К. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. М., 1974. 522 с.
- Левшин Б. В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1966. 188 с.
- Левшин Б. В. Работа комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны // Академия наук и Сибирь. Новосибирск, 1977. С. 152-158.