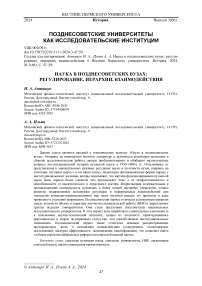Наука в позднесоветских вузах: регулирование, иерархии, взаимодействия
Автор: Антощук И.А., Ильин А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Позднесоветские университеты как исследовательские институции
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является вводной к тематическому выпуску «Наука в позднесоветских вузах». Опираясь на имеющуюся научную литературу и критически анализируя вошедшие в сборник исследовательские работы, авторы проблематизируют и обобщают малоизученные вопросы институциональной истории вузовской науки в 1950-1980-е гг. Отталкиваясь от представления о множественных режимах регуляции науки и агентности вузов, опираясь на сочетание «истории сверху» и «истории снизу», анализируя организационные формы наряду с институциональными логиками, авторы показывают, что картина функционирования вузовской науки была гораздо более сложной, чем предполагает тезис о ее «второстепенности» и обособленности от академического и отраслевого сектора. Возрастающая содержательная и организационная комплексность нуждалась в более тонкой настройке управления, однако развитие недирективных механизмов регуляции и неформальных взаимодействий при господстве командно-административных мер лишь частично решало эту проблему и даже приводило к усилению напряжения. Позднесоветский период отличался усложнением иерархии между вузами по объему и характеру научно-исследовательской работы (НИР) и закреплением группы ведущих университетов. Они стали предтечами постсоветских национальных исследовательских университетов. В этот период вузы выработали удивительную адаптивность к изменениям научно-технической политики, однако их агентность характеризовалась реактивностью и скорее поддерживала статус-кво, чем способствовала институциональным изменениям. Позднесоветский период также отметился неявным распространением проторыночных логик и механизмов взаимодействия (конкуренции, хоздоговорных исследований, дискурса эффективности, экономизации, квантификации), что позволяет найти глубокие корни неолиберальных реформ постсоветской высшей школы.
Советская вузовская наука, советские университеты, нир, организация советской науки, институциональная преемственность
Короткий адрес: https://sciup.org/147246551
IDR: 147246551 | УДК: 001(091) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-47-59
Текст научной статьи Наука в позднесоветских вузах: регулирование, иерархии, взаимодействия
В последние годы растет интерес к осмыслению советской генеалогии современных российских вузов, в особенности университетов. Обращение к советскому наследию обусловлено необходимостью понимания и объяснения процессов глубокой трансформации высшего образования после распада Советского Союза [25 Years of Transformations…, 2018; Lovakov et al., 2022; Building Research Capacity..., 2022; Chankseliani , 2022; Кузьминов , Юдкевич , 2021]. Несмотря на расходящиеся траектории институциональных изменений на постсоветcком пространстве ‒ от последовательной десоветизации (страны Балтии) до прогрессирующей ресоветизации (Россия, Беларусь), ряд характеристик советского университета и советской высшей школы в целом оказался довольно устойчивым [ Chankseliani , 2022, p. 138]. В этом смысле советская модель высшего образования требует обстоятельного изучения не как «притягательный нормативный идеал» [ Лаврухин , 2019, с. 22] или то, что должно быть «преодолено» [ Lovakov et al., 2022], но как система «институциональных основ» [Университеты на перепутье…, 2019, с. 21], принципов и логик функционирования, которые до сих пор пронизывают и обусловливают текущие формы и практики академической жизни, хотя редко осознаются как укорененные в советском прошлом. Одной из серых зон являются научные исследования в советских вузах. Попытки форсировать рост университетской науки в постсоветской России, как правило, сопровождались дистанцированием от советского опыта как от опыта слабой, подчиненной, отстающей вузовской науки [ Skvortsov et al., 2013; Кузьминов , Юдкевич , 2021] и ориентировались на институциональные модели, выработанные в Европе и США [ Салми , Фрумин , 2007; Чубик и др., 2009]. Однако в последние годы актуализируется интерес к «эффектам колеи» и многочисленным линиям преемственности современных форм и практик научных исследований в высшей школе с советского времени [ Chankseliani et al., 2022; Fedyukin , 2022; Наука большой страны…, 2023]. Продолжая линию переосмысления советского наследия, в этой статье авторы проблематизируют малоизученные вопросы институциональной истории вузовской науки позднесоветского периода (1950‒1980-е гг.), смещая фокус научного внимания на недостаточно известные феномены и предлагая альтернативные подходы к привычным проблемам.
Научные исследования в вузах в контексте советской науки
Какое представление мы имеем о научных исследованиях в позднесоветских вузах? Кроме отдельных обстоятельных работ [ Лахтин , 1990, с. 69‒83; Fedyukin , 2022; Грибовский , 2023], современные научные взгляды носят противоречивый и фрагментарный характер. С одной стороны, в ситуации «крайнего» организационного разделения высшего образования и науки, установившегося в 1920-х – начале 1930-х гг., когда основной организационной формой научного учреждения стал научно-исследовательский институт [ Graham , 1975; Лахтин , 1990, с. 7], большинство вузов функционировали и воспринимались прежде всего как учебные заведения [Building Research Capacity..., 2022, p. 1]. За редким исключением (в частности, МГУ, ЛГУ, МФТИ, НГУ и др.), отмечаются второстепенная роль научной деятельности в высшей школе и незначительный вклад вузов в науку в масштабах страны [ Lovakov et al., 2022; Chankseliani , 2022], где они вынуждены были оставаться «в тени отраслей и академий» [ Грибовский , 2023, с. 300].
С другой стороны, хотя «институциональное разделение» между секторами действительно существовало, отделение науки от высшего образования не было официальной доктриной властей [Fedyukin, 2022, р. 16]. Идеологически было важно избегать противостояния между секторами и поддерживать картину единства советской науки, объединенной общей целью, служащей модернизации промышленности и сельского хозяйства (см., напр., [Josephson, 1992]). На дискурсивном уровне неизменно поддерживалась риторика о том, что подготовка высококвалифицированных специалистов и ученых «не может осуществляться без всестороннего развития научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» (О мерах улучшения…, 1957) и что «выполнение научно-исследовательских работ» является одной из «главных задач» высшей школы (Положение о высших учебных заведениях СССР…, 1969, с. 91). На уровне регулирующих документов вузовская наука была объектом управления как специальных постановлений центральных союзных ведомств, нацеленных на стимулирование научной работы в вузах в 1950‒1980-х гг. (О мерах улучшения…,; О дальнейшем развитии…,; О повышении эффективности…,; О повышении роли…,), так и документов о работе исследовательских учреждений в целом (Кузьминов, Юдкевич, 2021, с. 270‒272; Fedyukin, 2022, с. 18‒20).
В-третьих, сами вузы не довольствовались лишь ролью поставщиков высококвалифицированных кадров [ Вахитов , 2014]. Множество публикаций по истории отдельных областей науки, отдельных кафедр, факультетов и вузов, истории высшей школы в регионах России (см. напр., диссертацию о развитии химии на Урале [ Дерябина , 2012], работу о кафедре физики Саратовского университета [ Усанов , 2006], о факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ [ Григорьев , 2005], третий том биографического словаря «Профессора Томского университета» [ Фоминых и др., 2003], статью о научных исследованиях в Дальневосточном рыбохозяйственном институте [ Прилуцкая , Колоколова , 2015], о вузовской науке в Дагестане [ Лысенко , 2016] и Башкирии [ Исянгулов , 2021]) демонстрируют, что исследовательская деятельность «никогда не была маргинальной в советском высшем образовании» [ Fedyukin , 2022, p. 16]. Она реализовывалась не только в ведущих университетах и университетах с дореволюционным прошлым, но и во второстепенных, региональных, отраслевых вузах. Научная работа была важной частью символического капитала высшей школы и ресурсом в борьбе за лучшие позиции в командно-административной системе управления. Научные результаты вузов были достаточно заметными, отмечались, например, даже в ежегодных отчетах Академии наук об основных достижениях за год (ГАРФ. Ф. А605. Оп. 1. Д. 6531. Л. 132).
В-четвертых, хотя масштаб и характер научно-исследовательской работы в вузах были очень неравномерными, высшая школа была ключевым элементом публичного образа советской науки. Миллионам советских граждан именно вуз давал опыт приближения к реальному миру большой науки: там студенты приобщались к лабораторному знанию, академической жизни и опыту научных дискуссий [ Tromly , 2014, p. 16]. Здания университетов нередко воспринимались как «храмы науки», выступая материальными и визуальными воплощениями науки в городском ландшафте. Самым ярким примером такого рода является здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Здания университетов привлекали множество туристов, в том числе иностранных, служа витриной науки и советского строя в целом [Ibid., p. 1‒2, 34]. Обладая имиджем научных центров, вузы стали участниками советизации соцлагеря, а также проводниками советской мягкой силы по всему миру и центрами культурной дипломатии, сыгравшими большую роль в холодной войне [ Conelly , 2000; Katsakioris , 2017].
Итак, наблюдается существенный разрыв между распространенными представлениями о вузовской науке и ее реальным значением для государства и для самой высшей школы. Более того, существуют серьезные пробелы в понимании ее сложной организации и функционирования. Многочисленные работы по истории отдельных кафедр, факультетов, вузов или биографиям выдающихся ученых, несмотря на богатую источниковую базу и фактический материал, зачастую остаются лишь локальным «краеведением» [ Абрамов , 2015, с. 229]. Подобные работы, как правило, служат конструированию традиций и созданию «славной истории» вуза [ Дмитриев , 2013], не ставя перед собой задачи добиться критической отстраненности от своего предмета, вписать его в исторический контекст и предложить объяснительные модели. Данная статья нацелена частично восполнить этот пробел и критически реконструировать социальную историю вузов как научноисследовательских учреждений в контексте позднесоветской большой науки, в условиях колоссального увеличения числа научно-исследовательских учреждений и научных сотрудников, процессов университезации и социально-экономической дифференциации вузов.
Позднесоветская вузовская наука : режимы регулирования, пределы агентности, сквозные логики
Отталкиваясь от проблематизаций вузовской науки И. И. Федюкина [ Fedyukin , 2022] и М. В. Грибовского [ Грибовский , 2023], авторы нацелены компенсировать некоторые недостатки современных подходов к ее изучению. Во-первых, данная статья призывает пересмотреть упрощенный взгляд на управление научными исследованиями. В исследованиях постсоветского образования устоялось мнение, что, будучи «частью сложной государственной машины»
[ Froumin , Lisyutkin , 2018, p. 239], высшая школа была полностью подконтрольна власти [ Jonh-son , 2008] и отличалась высокой степенью централизации [ Graham , Dezhina , 2008], где администрирование происходило исключительно в директивной манере сверху вниз [ Kuraev , 2016; Chankseliani , 2022]. Напротив, мы исходим из взгляда на управление как на сложную схему взаимодействия внешних и внутренних акторов, где было место для инициирования и планирования научных работ снизу [ Грибовский , 2023]. В статье раскрываются новые грани «режимов регулирования» (modes of governance) вузовской науки [ Dufaud , Tatarchenko , 2022], когда возникают причудливые сочетания командно-административных и неформальных, недирективных механизмов взаимодействия игроков институционального поля советской науки. Не умаляя роли вышестоящих инстанций (ЦК КПСС, ГКНТ при Совмине СССР, союзный и республиканские Минвузы), мы показываем, как выстраивались нелинейные и противоречивые формы коммуникации между властью, вузами, академическими и отраслевыми НИИ и предприятиями.
В-третьих, инкорпорируя подходы институциональной истории науки, авторы нацелены выйти за пределы истории сверху, доминирующей в исследованиях вузовской науки. Опираясь на большую историю научно-технической политики, ключевых государственных решений, эволюции организационных форм и управленческих структур советской науки [Лахтин, 1990; Graham, 1993; Наука большой страны…, 2023], мы дополняем ее анализом действий и взаимодействий «слабых» акторов ‒ отдельных ученых и руководителей, научных коллективов, представителей лабораторий, кафедр, факультетов. В условиях нарастающей стагнации науки, ощущения пределов роста и накопления разочарования от ее недостаточной эффективности в 1970‒1980-е гг. анализ больших трендов и официальной риторики оказывается недостаточным и не всегда продуктивным. Обращаясь к локальным историям и малым кейсам, авторы прослеживают линии напряжения, противоборства и нестыковки, возникающие в вузовской науке при адаптации больших решений к их реализации на местах, при столкновении больших политик, корпоративных интересов и личных амбиций, при расхождении интересов различных ключевых акторов, при пересечении различных логик и правил взаимодействия. Кроме того, авторы развивают теорию институциональных преемственностей / разрывов (institutional (dis)continuities), смещая фокус с организационных форм на сквозные институциональные ло- гики. Представляя собой исторически специфичную согласованную совокупность практик, ценностей, правил, идей, которые организуют и придают смысл действиям индивидов и групп [Thornton, Ocasio, 1999, р. 804], логики интересны тем, что проникают сквозь организационные разделения, могут воспроизводиться и сохранять свое влияние даже при видимых организационных разрывах и глубоких институциональных трансформациях.
Позднесоветская вузовская наука: конкуренция, иерархии, (не)директивное управление и эффективность
Тематическая выпуск включает четыре исследования, которые отличаются по охвату, объекту и предмету исследования, ключевым вопросам и подходам. Хотя эти работы не претендуют на полное и комплексное раскрытие проблемных вопросов вузовской науки, разноплановость работ, многообразие тем, вариативность масштаба позволяют создать сложную картину функционирования вузовской науки позднесоветского времени и выделить значимые сквозные тренды развития.
Статья А. О. Степанова и М. В. Грибовского раскрывает стратегии «борьбы за научное лидерство», которых придерживались позднесоветские университеты в условиях привилегированного положения отраслевых институтов и научно-исследовательских институтов АН, а также не всегда благосклонного отношения высших инстанций (ЦК КПСС, Совет министров СССР и республик) к отдельным вузам. Понятие «ассиметричная конкуренция» подчеркивает, что ландшафт советской науки являлся полем борьбы за ресурсы и статус, где сложились не слишком невыгодные для всех вузов правила игры. Но даже относительно «слабые» игроки обладали определенной агентностью, практически все университеты имели пространство для маневрирования и переговоров. При этом подчас научные подразделения вузов выступали как отдельные игроки и полноценные конкуренты (например, СФТИ и физфак при Томском государственном университете (ТГУ)). В первую очередь вузы пытались преодолеть проблемы недофинансирования и слабой материально-технической базы НИР, которые были хроническими трудностями, особенно для провинциальных университетов (Петрозаводского, Воронежского и др.). Стремясь заработать дополнительные средства, доказать свою пользу для властей и экономики страны, университеты использовали различные способы: сотрудничество с академическим сектором, создание университетских НИИ, выполнение хоздоговорных работ, мобилизация неформальных связей в министерствах и Академии наук. Командно-административная система, таким образом, не исключала возможности для университетов продвигать свои научно-исследовательские инициативы и добиваться вовлечения в крупные исследовательские проекты, в том числе за счет включенности в неформальные профессиональные сети, пересекающие институциональные границы научных учреждений и государственных органов. Так, благодаря контактам ректора, ТГУ стал единственным университетом ‒ участником межотраслевого научно-технического комплекса «Термосинтез», также ему поручили разработку программы «Социально-экономические проблемы интенсивного хозяйственного освоения в Сибири».
Однако, хотя университетам было важно вовлечение в науку для сохранения своего имиджа, плотная работа по «хоздоговорным» контрактам с заводами и ведомствами размывала их символический статус. Прикладные задачи по разработке, наладке различных машин и технологических процессов были далеки от образа науки дореволюционных университетов, основанного на философских и других «непрактичных» фундаментальных исследованиях. Кроме того, высокая конкуренция между университетами и другими игроками поля советской науки имела следствием усиление дифференциации вузов и выделение группы ведущих университетов в области научно-исследовательской работы.
Авторы обнаруживают ряд линий преемственности постсоветских университетов с советским наследием. Во-первых, это адаптивность университетов, их способность гибко встраиваться в меняющуюся систему высшего образования и науки, реагировать на изменение государственных приоритетов и правил игры в организационном поле. Во-вторых, удивительно устойчивой оказывается иерархия учреждений высшего образования, где большинство позднесоветских ведущих университетов становятся лидерами постсоветской науки.
Остается вопрос о понятии классического университета и его аналитической ценности. Так, в работе А. Дмитриева классический университет раскрывается как закрепившаяся дискурсивная конструкция, которая выступает «механизмом распределения власти и ресурсов на внегосударственном уровне» и позволяет избранным вузам претендовать на высшие позиции в системе [ Дмитриев , 2013, с. 55‒56]. Авторы статьи скорее придерживаются конвенциональной версии и связывают классический университет с традициями гумбольдтовского университета и фундаментального образования, не скованного исключительно прикладными задачами [Университеты на перепутье…, 2019, с. 21]. Они трактуют понятие «классический университет» как тип учреждения высшего образования, который оставался вдохновением и институциональным ориентиром для позднесоветских вузов. Однако фактически в своей статье они фиксируют размывание «классических» черт и трансформацию институционального лица позднесоветских университетов по мере подстраивания под утилитарные государственные цели и нужды народного хозяйства.
Статья Д. В. Хаминова проблематизирует процессы дифференциации вузов в процессе активной универсетизации азиатской части России в позднесоветский период. Опираясь на концепцию центр-периферийных отношений, автор раскрывает процессы формирования иерархии на этой малоизученной территории «внутренней периферии». В центре его внимания ‒ взаимодействия и взаимоотношения самих университетов, старых и новых, где острая конкуренция соседствовала с тесным сотрудничеством. Фокусируясь на вопросах подготовки научных кадров в рамках договоров о шефской помощи и целевой аспирантуры, автор показывает, что между состоявшимися университетами и новичками зачастую устанавливались неравные отношения. Старые вузы выступали для молодых донорами кадров, оборудования, экспертизы, а также кураторами, консультантами и опытными старшими товарищами. Из молодых университетов успешным исключением стал Новосибирский государственный университет (НГУ), быстро завоевав статус макрорегионального центра благодаря включенности в сеть взаимосвязей с Академией наук и широкую инфраструктуру академгородка. В результате названных процессов возникла макрорегиональная иерархия университетов, где старые вузы (ТГУ, ИГУ, УрГУ) стали крупными научно-образовательными центрами, не только отвечавшими на социально-экономические запросы региона, но и окормлявшими в образовательном и научном отношении молодые вузы (АлтГУ, ОмГУ, ТюмГУ). Взаимодействие между вузами сопровождалось также трансфером / циркуляцией знаний, исследовательских практик, отдельных аспектов академической культуры. Это способствовало формированию довольно обособленного макроре-гионального академического сообщества, со своими точками притяжения, аккумуляции и распределения ресурсов, со своими центрами разработки оригинальных научных проблем и координации научных исследований, во многом автономнными от центров научной жизни в европейской части страны и других регионов СССР.
Сосредотачиваясь на инженерно-техническом секторе высшего образования и на региональных вузах (Пензенский государственный университет, Пензенский политехнический институт, Свердловский горный институт и др.), Р. Н. Абрамов в статье поднимает один из волнующих вопросов: почему вузовская наука не приносила желаемого экономического эффекта и часто превращалась в «бумажную архитектуру», несмотря на многочисленные управленческие инициативы и государственную поддержку? Перспективные организационные формы НИР (проблемные лаборатории и НИИ при вузах), попытки государства поощрять исследовательскую деятельность преподавателей (меры по снижению преподавательской нагрузки, межвузовские конкурсы, меры по расширению хоздоговорных работ), развитие сотрудничества с отраслевыми НИИ и предприятиями неизменно оказывались недостаточными, реализовывались частично или сталкивались с рядом барьеров. Эти препятствия носили системный характер, так как оказывались укорененными в институциональных особенностях советского высшего образования и советской науки в целом. Преподаватели были перегружены и не могли уделять достаточно времени исследованиям, вузы страдали от недостаточного финансирования и слабой материально-технической базы. Сохранялся разрыв между научными разработками и их внедрением, в том числе из-за противодействия конкурирующих ведомственных и академических
НИИ. Показательным примером недореализованных возможностей выступает история «хоздоговорной науки». Хоздоговорные проекты оказывались выгодными для вузов и служили собственным целям сотрудников вузов: они позволяли получить дополнительный доход и реальные научные результаты, помогали защищать диссертации и улучшать отчетность кафедр, факультетов, способствовали продвижению по карьерной лестнице. Аутсорсинг исследований призван был стать серьезным подспорьем и для промышленности в плане внедрения новых разработок, технической модернизации предприятий и повышения эффективности труда. Однако зачастую хоздоговорные работы оставались лишь способом производить удобную отчетность по реализации НИОКР. Кроме того, возникали дополнительные внутренние бюрократические препятствия: вузовская администрация избегала юридических и финансовых сложностей, связанных с оформлением хоздоговоров.
Попытки преодолеть стагнацию, недостаточное применение научных результатов для социально-экономических целей порождали дискуссии об эффективности вузовской науки, стремление квантифицировать результаты исследований и тем самым сделать их прозрачными для внешнего контроля. Количественные показатели стали обязательной частью отчетности по НИР, появились методические пособия и брошюры по оценке экономических эффектов научно-технических разработок, причем их создавали в том числе сами вузы (МГТУ им. Баумана, МИФИ). Однако, несмотря на попытки привлечь экспертные мнения и выработать особый подход к фундаментальным исследованиям, тенденция к стандартизации формуляров, типизации показателей и предпочтение четких измеряемых индикаторов привели к перекосу в сторону количественной оценки исследований, сделав анализ слабо чувствительным к различиям между разными типами разработок. В итоге расчеты эффективности оставались в основном умозрительными, выполняемыми формально. Многолетние попытки стимулировать исследовательскую работу в вузах и повысить ее экономический эффект не приводили к ожидаемым результатам, реальные результаты научной работы ускользали от административного контроля и целевых показателей.
Статья М. О. Зимирева фокусируется на истории программированного обучения (ПО) в 1960-х гг. В ней вузовская наука рассматривается в контексте научно-технической координации как оттепельной «попытки связать по-социалистически диссоциированную науку и технику в единый цикл внедрения» [Орлова, 2023, с. 106]. Внедрение обучающих машин (электромеханических устройств, позволявших проводить тестирование учащихся и демонстрировать им учебный материал) обещало компенсировать нехватку учителей и революционизировать образование во всесоюзном масштабе. В условиях господства представлений о командноадминистративных методах управления в советской науке траектории развития ПО в рамках координации как «административной инновации» раскрывали возможности и пределы «недирективных форм взаимодействия» [Там же, с. 128‒130]. Отслеживая взаимодействия различных акторов (НИИ, ОКБ, вузы и др.) в рамках Научного совета по кибернетике, автор раскрывает множество порождаемых координацией интересных эффектов. Во-первых, секции Научного совета действительно стали площадкой для обмена мнениями, критики и способствовали формированию связей сотрудничества между институционально обособленными акторами. Например, установилось сотрудничество инженеров-конструкторов МЭИ и ученых АПН СССР, которое вылилось в совместную статью о машине «Репетитор». Во-вторых, координация привела к распределению задач в соответствии с профилем вуза: проблемная лаборатория программированного обучения при МГУ стала центром теоретической проработки темы, в то время как созданием конкретных образцов машин занимались студенческое конструкторское бюро и лаборатория факультета автоматики и вычислительной техники МЭИ. В-третьих, координация открыла новые возможности для научных споров, что могло порождать серьезные противостояния научных групп и продвигаемых ими концепций. Так, невозможность прийти к консенсусу и согласованному видению программированного обучения между лабораторией П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной МГУ и лабораторией Л. Н. Ланды при АНП СССР провела к расколу, прекращению сотрудничества и выходу МГУ из разработок обучающих машин. Координационный орган оказался неспособным канализировать разногласия между научными группами в продуктивную работу. Технократические представления и способы решения задач, казалось, позволяли упростить создание обучающих машин и обеспечить быстрое достижение результата по их тиражированию. Однако, несмотря на вовлечение значительных сил и ресурсов, программированное обучение проиграло в борьбе за статус одного из основных государственных приоритетов. Удивительным образом риторика эффективности повернулась обратной стороной, когда встал вопрос о дальнейшем развитии ПО после первых опытов применения обучающих машин в МЭИ. Нехватка помещений и недостаток машин для обеспечения всех студентов, использование машин в основном для проверки результатов обучения, снижение успеваемости ‒ ввиду этих и других причин, несмотря на долгосрочные перспективы, ПО было признано малоэффективной тратой времени и потеряло прежнюю поддержку.
Заключение
Итак, подведем итоги. Позднесоветское время было насыщенным, нелинейным, неоднородным периодом развития вузовской науки, где сосуществовали, боролись между собой и сочетались разнонаправленные тенденции и процессы. Конкуренция между вузами за студентов и аспирантов соседствовала с шефской помощью и циркуляцией знаний. Директивы по приоритетному развитию научных направлений сосуществовали с горизонтальными связями между вузами и НИИ. Формальные критерии отчетности НИР становились поводом к установлению неформальных отношений сотрудничества. Усложнение внутренней структуры вузов порождало конфликты между его подразделениями, а административные соображения становились неожиданным ограничителем расширения хоздоговорной науки. Вузовская наука в позднесоветский период отличалась возрастающим разнообразием организационных форм, умножением правил и логик функционирования, расширением механизмов сотрудничества, межорганизационных и межведомственных контактов, ростом профессиональных сетей. Возрастающая содержательная и организационная сложность настоятельно требовала все более тонко настроенных и чувствительных к многообразию механизмов регулирования. Однако при доминировании командно-административных мер и одновременном распространении недирективных механизмов взаимодействия усиливалось напряжение между формальной организацией и неформальным устройством научно-исследовательской деятельности, между декларируемыми правилами и реальными принципами научной работы, между институциональными барьерами и потребностью в множественных взаимосвязях между секторами науки, между ожиданиями экономической отдачи и воспринимаемым дефицитом эффективности НИОКР, между плановой экономикой и развитием проторыночных институциональных логик.
В этих условиях происходило усиление неравенства между вузами по объему и характеру НИР, формировались макрорегиональные научные сообщества, усложнялись управленческие режимы, вырабатывались различные стратегии и модусы агентности вузов, обретали устойчивость институциональные логики. Мы обнаружили, что в позднесоветское время закреплялась статусная иерархия вузов, в которой ведущие университеты находились на вершине пирамиды, аккумулируя лучшие человеческие, финансовые, технические ресурсы и символический капитал. Главные советские университеты выступали организационными предтечами постсоветских исследовательских университетов и действительно сохранили или обрели статус крупных научных центров в 2000-х гг.
Мы увидели, как решения, спущенные сверху, реализовывались благодаря недирективным механизмам координации и неформальным взаимодействиям. Формально подчиняясь централизованным решениям и выполняя требования высших инстанций, вузы одновременно создавали пространство для собственных действий и выстраивания сетей сотрудничества, использовали установленные правила игры для достижения своих целей, параллельно продвигая альтернативные смыслы и логики. Высшая школа оказалась в высшей степени адаптивна, гибко реагируя на перемены научно-технической политики и отвечая на запросы со стороны представителей власти. Однако эту агентность можно назвать скорее реактивной, чем проактивной, скорее конформной, поддерживающей статус-кво, чем ведущей к институциональным изменениям. В этом смысле мы наблюдаем преемственность в стратегиях подстройки постсоветских вузов: демонстрируя лояльность и формальное подчинение, следуя установленным государством правилам и требованиям, фактически они используют и переформулируют их для реализации собственных интересов и достижения своих целей.
Кроме того, нами была зафиксирована любопытная картина подспудного распространения проторыночных логик и механизмов взаимодействия ‒ конкуренции за ресурсы и влияние как внутри вузов, так и между вузами, повсеместной вовлеченности в хоздоговорные контракты и приоритета прикладной науки, озабоченности эффективностью и максимизацией экономических эффектов НИОКР, тенденции квантификации и преобладания технократических интерпретаций в системной оценке научных исследований. После распада СССР и деградации устоявшихся организационных форм науки, возможно, именно эти институциональные логики во многом обеспечили преемственность и стали «местом встречи» советского и постсоветского в высшей школе [ Smolentseva , 2017, р. 1091]. Возможно, они объясняют, почему Россия стала «исключительно талантливым импортером» неоменеджериализма [ Sigman , 2016, р. 73], а неолиберальные политики не вызвали серьезного отторжения в постсоветском академическом сообществе.
Список литературы Наука в позднесоветских вузах: регулирование, иерархии, взаимодействия
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А605. Оп. 1. Д. 6531. Протоколы заседаний коллегии Минвуза РСФСР с № 1 по № 11 и перечень вопросов к ним.
- О дальнейшем развитии научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 февраля 1964 г. № 163 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сб. док. в 5 т. Т. 5. М.: Политиздат, 1968. Т. 5. С.447-451.
- О мерах улучшения научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях: Постановление Совета Министров СССР от 12 апреля 1956 г. № 456 // Высшая школа: основные постановления, приказы и инструкции. М.: Высшая школа, 1957. С. 215-218.
- О повышении роли вузовской науки в ускорении научно-технического прогресса, улучшении качества подготовки специалистов: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1987 № 203 // Собрание постановлений правительства РСФСР за 1987 г. № 1-23. М.: Юридической лит., б. г. С. 123-127.
- О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля 1978 № 271 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сб. док. в 16 т. М.: Политиздат, 1979. Т. 12. С.244-251.
- Положение о высших учебных заведениях СССР (утв. Постановлением Совета Министров СССР № 64 от 22 января 1969 г.) // Собрание постановлений правительства СССР. 1969. № 4. С.90-111.
- Абрамов Р.Н. Профессиональные культуры и социальная память на примере дискурса о советских и постсоветских технических специалистах // Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему? / под ред. О.Б. Божкова. СПб.: Эйдос, 2015. С. 223-237.
- Вахитов Р.Р. Судьбы университета в России: имперский, советский и постсоветский раздаточный мультиинститут. М.: Страна Оз, 2014. 276 с.
- Грибовский М.В. Наука в советском вузе: в тени отраслей и академий // Наука большой страны: советский опыт управления / под ред. Е.А. Долговой. М.: Изд-во РГГУ, 2023. С. 300-375.
- Григорьев Е.А. Факультет ВМиК МГУ: история и современность // Вестник Моск. ун-та. Вычислительная математика и кибернетика. 2005. № S. С 14-23.
- Гудков Л.Д. Кризис высшего образования в России: конец советской модели // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. № 4. С. 32-45.
- Дерябина А.В. Организация химической науки на Урале в 1945-1965 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012. 259 с.
- ДмитриевА.Н. Переизобретение советского университета // Логос. 2013. № 1. С. 41-64.
- Исянгулов Ш.Н. Вузовская наука в Башкирии в 1960-1980-е гг. // Известия Уфим. науч. центра РАН. 2021. № 3. С. 89-95.
- Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университет в России: как это работает. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. 616 с.
- Лаврухин А.В. Идеология «ресоветизации» в высшем образовании Беларуси: между мифом и реальностью // Идеология и политика. 2019. № 2. C. 20-58.
- ЛахтинГ.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. 224 с. Лысенко Ю.М. Вузовская наука в Дагестане в 50-60-е гг. ХХ в. // Вестник Дагестан. науч. центра РАН. 2016. № 61. С. 67-74.
- Мазур Л.Н., Карманова Е.Д. К вопросу об автономии российских университетов: историко-документоведческое исследование уставов XIX-XXI веков // Вестник Волгоград. гос. ун-та. История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25, № 2. С. 156-169.
- Наука большой страны: советский опыт управления / под ред. Е.А. Долговой. М.: Изд-во РГГУ, 2023.
- Орлова Г.А. Открывая рубрику: советские машины координации // Социология науки и технологий. 2023. Т. 14, № 1. С. 24-31.
- Прилуцкая Е.К., Колоколова Н.В. Отраслевая вузовская наука: особенности организации, успехи и трудности (из опыта научно-исследовательской работы «Дальрыбвтуза» в 1970-1991 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 5. C. 146-149.
- Салми Д., Фрумин И.Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса // Вопросы образования. 2007. № 3. С. 5-45.
- Университеты на перепутье: высшее образование в России / под ред. Д.П. Платоновой, Я.И. Кузьминова, И.Д. Фрумина. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. 319 с.
- Усанов Д.А. К 60-летию кафедры физики твердого тела // Известия Саратов. ун-та. Физика. 2006. Т. 6, вып. 1. С. 85-90.
- Фоминых С.Ф., Некрылов С.А., Берцун Л.Л., Литвинов А.В., Петров, К.В., Зленко К.В. Профессора Томского университета (1945-1980). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. Т. 3. 532 с.
- Чубик П.С., Чучалин А.И., Похолков Ю.П, Агранович Б.Л. Исследовательские университеты в России: пути становления и развития // Университетское управление: практика и анализ. 2009. № 1. С. 22-30.
- Years of Transformations of Higher Education Systems in Post-Soviet Countries: Reform and Continuity / ed. by J. Huisman, A. Smolentseva, I. Froumin. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. 482 p. Building Research Capacity at Universities: Insights from Post-Soviet Countries / ed. by M. Chankseliani, I. Fedyukin, I. Frumin. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 350 p.
- Chankseliani M. What Happened to the Soviet University? Oxford: Oxford University Press, 2022. 193 p.
- Connelly J. Captive University: The Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Education, 1945-1956. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000. 456 p.
- Dufaud G., Tatarchenko K. The Lives of Late Soviet Science, 1945-1991. Introduction // Cahiers du monde russe. 2022. Vol. 63, no. 1. P. 21-32.
- Fedyukin I. Separation Between Higher Education and Research in the USSR: Myth or Reality? // Building Research Capacity at Universities: Insights from Post-Soviet Countries / ed. by M. Chankseliani, I. Fedyukin, I. Frumin. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. P. 15-32.
- Froumin I., Lisyutkin M. The State as the Driver of Competitiveness in Russian Higher Education: The Case of Project 5-100 // International Status Anxiety and Higher Education: The Soviet Legacy in China & Russia / ed. by A. Oleksiyenko, Q. Zha, I. Chirikov. Hong Kong: CERC; Springer, 2018. P. 237-257.
- Graham L. Science in Russia and the Soviet Union: A Short History. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 331p.
- Graham L. The Formation of Soviet Research Institutes: A Combination of Revolutionary Innovation and International Borrowing // Social Studies of Science. 1975. Vol. 5, no. 3. P. 303-329.
- Graham L., Dezhina I. Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform. Bloomington: Indiana University Press, 2008. 216 p.
- Johnson M. Historical Legacies of Soviet Higher Education and the Transformation of Higher Education Systems in Post-Soviet Russia and Eurasia // The Worldwide Transformation of Higher Education / ed. by D P. Baker, A.W. Wiseman. Bingley: Emerald Publishing, 2008. P. 159-176.
- Josephson P. Soviet Scientists and the State: Politics, Ideology, and Fundamental Research from Stalin to Gorbachev // Social Research. 1992. Vol. 59, no. 3. P. 589-614.
- Katsakioris C. Creating a Socialist Intelligentsia: Soviet Educational Aid and its Impact on Africa (1960-1991) // Cahiers d'études africaines. 2017. No. 2. P. 259-288.
- Kuraev A. Soviet Higher Education: An Alternative Construct to the Western University Paradigm // Higher Education. 2016. Vol. 71. P. 181-193.
- Lovakov A., Chankseliani M, Panova A. Universities vs. Research Institutes? Overcoming the Soviet Legacy of Higher Education and Research // Scientometrics. 2022. Vol. 127, no. 11. P. 6293-6313.
- Sigman C. "The Return of the State" and New Forms of Domination in Russia: the Case of Higher Education // Revue française de science politique. 2016. Vol. 66, no. 6. P. 55-74.
- SkvortsovN.,Moskaleva O., Dmitrieva J. World-Class Universities: Experience and Practices of Russian Universities // Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal / ed. by Q. Wang, Y. Cheng, N.C. Liu. Rotterdam: Sense Publishers, 2013. P. 55-69.
- Smolentseva A. Where Soviet and Neoliberal Discourses Meet: The Transformation of the Purposes of Higher Education in Soviet and post-Soviet Russia // Higher Education. 2017. Vol. 74. P. 1091-1108.
- Thornton P.H, Ocasio W. Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958-1990 // American Journal of Sociology. 1999. Vol. 105, no. 3. P. 801-843.
- Tromly B. Making the Soviet Intelligentsia: Universities and Intellectual Life under Stalin and Khrushchev. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 310 p.