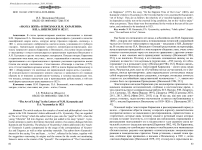"Наука жить" в письмах Н.М. Карамзина и П.А. Вяземского 1821 г
Автор: Прохорова Ирина Евгеньевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован комплекс высказанных в письмах Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому морально-философских суждений в качестве своеобразной «науки жить», которую автор стремился передать «питомцу» в 1821 г., когда молодого «либералиста» настигла опала, усилившая его глубокую «хандру». Значительное внимание уделяется литературно-историческому контексту непростого диалога Карамзина и Вяземского, отсутствие писем которого к «наставнику» отчасти компенсируется привлечением переписки Вяземского и А.И. Тургенева и других эпистолярных материалов. Показан интерес Карамзина к изречению «век живи, век учись... жить», отразившийся в письмах, высказаны предположения о его происхождении и причинах умолчания адресантом имени Сенеки как автора «пословицы». Сопоставление «Разговора о счастии» (1797), эссе «О счастливейшем времени жизни» (1803) и писем Карамзина Вяземскому в 1821 г. обнаруживает, что ключевые для карамзинской «науки жить» суждения - об относительности «возможного земного счастья» и зависимости его главным образом не от внешних условий жизни человека, а «уменья наслаждаться» тем, что имеешь, которые прозвучали еще в произведениях рубежа веков, в той или иной форме продолжали транслироваться в 1821 г.
Н.м. карамзин, п.а. вяземский, эпистолярий, "черная хандра", счастье, "век живи, век учись... жить", сенека
Короткий адрес: https://sciup.org/149127146
IDR: 149127146 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00006
Текст научной статьи "Наука жить" в письмах Н.М. Карамзина и П.А. Вяземского 1821 г
Уже более ста пятидесяти лет назад, в юбилейном для Н.М. Карамзина 1866 г, увидела свет первая книга, познакомившая читателей с важнейшей частью его богатого эпистолярного наследия - письмами к И.И. Дмитриеву. В отклике на нее П.А. Вяземского близкий родственник историографа, немало времени проведший и в эпистолярном общении с ним, очень точно отметил отличительную черту его писем по сравнению с другими сочинениями - в них «высшее место принадлежит человеку» [Вяземский 1984, 253], а не писателю. Поэтому в его письмах «специально ничему не научишься; но вместе с тем научишься (курсив наш - И.П.) всему, что обла-гороживает ум и возвышает душу» [Вяземский 1984, 252]. Можно сказать, что, по мнению Вяземского, эпистолярий Карамзина - своего рода наука жить. Разумеется, речь идет не об учебнике на все случаи жизни, но о связанных, иногда противоречиво, даже парадоксально соотносимых между собой морально-философских суждениях, в которых отозвалась личность «одного из достойнейших представителей человечества <...>, каким оно должно быть по призванию Провидения» [Вяземский 1984, 253].
Эпистолярное наследие Карамзина уже неоднократно привлекало специальное внимание исследователей, особенно в постсоветское время, о чем свидетельствуют содержательные работы В.Э. Вацуро, Р.М. Лазарчук, Л.А. Сайченко, ТБ. Фрик [Вацуро 1991], [Лазарчук 1996]; [Сайченко 2010, 2011, 2013, 2016]; [Фрик 2011, 2015] и др. И все же, как нам уже доводилось отмечать, недостаточно изученными остаются опубликованные в 1897 г. письма Карамзина к Вяземскому за 1810-1826 гг. [Прохорова 2017, 41].
Основной пафос эпистолярия Карамзина в рассматриваемый период в целом - стремление обрести самому и передать адресату диалектическое восприятие жизни с ее надеждами и разочарованиями, «приятностями» и «горестями», которые даны человеку свыше и истинный смысл которых он едва ли может постигнуть, в то время как наблюдения, переживания и размышления подталкивают его к меланхолии и «для здешнего света печальной системе» (выделено автором) [Карамзин 1862,44]. По Карамзину, все это, однако, не освобождает человека от необходимости в меняющихся обстоятельствах разумно выстраивать соответствующие эмоциональные реакции и поведенческие стратегии. Такая установка, с нашей точки зрения, особенно ярко проявилась в письмах к Вяземскому в 1821 г, когда «питомец Карамзина» [Вяземский 1879, 411] столкнулся с серьезными ис- пытаниями и «наставник» [Вяземский 1982, 284] стремился помочь в их преодолении и с помощью эпистолярной «науки жить». В данной статье делается попытка рассмотреть ее, учитывая литературно-исторический и бытовой контекст диалога Карамзина и Вяземского, что, правда, затруднено отсутствием писем Вяземского к Карамзину, но может быть отчасти компенсировано привлечением переписки Вяземского с А.И. Тургеневым.
В начале мая 1821 г. Карамзин сообщил Дмитриеву о завершении работы над 9-м томом «Истории государства Российского» (с изображением опричнины и деспотизма Ивана Грозного) и желании писать 10-й, уточнив: «пока могу еще писать». Упоминание о клонящейся «к закату» жизни сопровождалось призывом к московскому другу не откладывать поездку в Петербург для их свидания [Письма 1866, 307]. 24 мая Карамзин отметил присутствие в северной столице «князя - поэта» (Вяземский посетил северную столицу, приехав из Польши, где служил, в отпуск), с которым тоже говорили о Дмитриеве. Но заканчивалось письмо драматическим признанием: «Часто грусть меня давит и жизнь тяжела; все кажется сном и мечтою, а сердцу больно как наяву» [Письма 1866, 308]. 10 июня слова о «тихом удовольствии» работы над 10-м томом и «приятных» часах, проведенных в разговорах с графом Каподистрия или «Хозяином» (так Карамзин именовал Александра I, пригласившего его с семьей на лето в Царское село), напротив, следуют за известием о сердечных огорчениях из-за «неприятности», настигшей Вяземского [Письма 1866, 309, 308].
Тогда князь получил от своего начальника Н.П. Новосильцева известие о невозможности возвращения в Польшу - по сути, это была довольно оскорбительная «отставка без отставки» [Остафьевский архив 1899, 218]. Причем неблагонадежному чиновнику не позволили даже выехать в Варшаву за оставшейся там семьей, а чтобы собрать и передать жене необходимые для переезда значительные средства, он вынужден был просить помощи у друзей и родственников, в том числе Н.М. Карамзина. Возмущенный Вяземский, который до опалы сам задумывался об оставлении службы в Польше (Карамзин же советовал продолжить карьеру, пусть в другом месте [Письма 1897, 103]), потребовал гласной и полной отставки, не желая сохранить за собой и придворное звание камер-юнкера, полученное, кстати, тоже во многом благодаря протекции Карамзина.
Обстоятельства усугубили и без того довольно мрачное настроение Вяземского, что четко отразилось в его письмах, в которых он «весь налицо и наизнанку» [Вяземский 1963, 174]. Уже в варшавской переписке князя звучали мотивы неудовлетворенности, в том числе ходом либеральных преобразований в Польше и тоски «по недуге России» в целом, усилившиеся на фоне решений Лайбахского конгресса Священного союза в первой половине 1821 г. Сразу по возвращении на родину 18 апреля он признался другу и единомышленнику А.И. Тургеневу, что смотрит на окружающее «с окаменением свидетеля похорон ближнего сердцу человека» [Остафьевский архив 1899, 182-183].
Узнав об опале, Вяземский написал Тургеневу 4 августа: «О себе ска- зать хорошего нечего: на меня нашла такая дурь, такая черная хандра, что иногда доводит до отчаяния. Черт знает, когда пронесется!» [Остафьев-ский архив 1899, 195]. Рефлексией на тему «черной хандры», ее причин, симптомов и средств излечения наполнены письма Вяземского Тургеневу в августе 1821 г. Глубоким и одновременно эмоциональным самоанализом выделяется среди них написанное 22 августа: «Мне кажется, что вся жизнь моя скоропостижно умерла. Неужели не будет воскресения? Что за глупое создание человек! <...> Горести нет, а чувство горечи. <...> Благословлю страдания свои. <...> только избавьте от этой смерти бытия» [Остафьевский архив 1899, 202]
Ситуация, в которой оказался Вяземский, связанные с ней переживания и поиски решения, разумеется, отразились в письмах к нему Карамзина. Причем его письма по сравнению с тургеневскими показывают, что «наставник» был особенно внимателен к психологическому состоянию «питомца» и стремился передать ему свои представления о «науке жить», настраивая на преодоление «черной хандры».
2 мая 1821 г, еще до известия об опале Вяземского, Карамзин писал только что приехавшему из Варшавы в Москву подопечному, очевидно, в ответ на его жалобы на «скуку»: «Авось, когда-нибудь перестанете скучать; этот талисман дается с летами» [Письма 1897, 112]. Возможно, автор здесь припомнил формулу, выведенную им еще в журнальном эссе «О счастливейшем времени жизни». В нем утверждалось, что счастье, насколько оно вообще возможно в земной жизни, открывается не младенцу, юноше или старику, а «опытному человеку <.. > за тридцать пять лет», когда «живем дома; живем более в самих себе» и находим «моральное удовольствие» в «воспитании детей, хозяйстве, государственной деятельности», «сладкое отдохновение» - в «дружбе и приязни» [Карамзин 1803, 53-54]. Правда, в 1821 г. не раз упоминавший о надвигающейся старости Карамзин все же посчитал нужным высказаться и о своей способности / неспособности обрести «счастье». В письме Вяземскому 30 августа он вновь подчеркнул не только маловероятность его достижения в жизни, но и относительность этой ценности: «Я также (имелось в виду: как и адресат - И.П.) не горазд счастью, с тою разницею, что мало и забочусь об этой невидальщине; смотрю в землю, взглядывая иногда на небо» [Письма 1897, 116].
В начале июня интонация писем Карамзина, так или иначе связанных с Вяземским, стала более напряженной. Узнав об официальном повелении князю не «возвращаться в Варшаву» из-за «нескромных разговоров его о политике», Карамзин, судя по его письму к Дмитриеву от 10 июня, был настолько встревожен, что решил обратиться «для объяснения» к государю. В том же письме отмечалось, что царь в разговоре с ним «милостиво» позволил Вяземскому «иметь место в Петербурге», но тот «не хочет» [Письма 1866, 308].
В 1866 г. при подготовке данного письма к печати из него (купюры делались и в других письмах, но это другая тема) по настоянию Вяземского были исключены слова о неодобрении его идейно-политической позиции
Карамзиным: «Либерализм его мне самому не нравится; однако ж по любви моей к нему эта история печальна для моего сердца» [Пекарский 1866, 308]. На полях Карамзин приписал: «Все это между нами». Вероятно, в 1866 г. Вяземский вослед Карамзину в 1821 г. посчитал нужным оградить от публичности семейные политические разногласия и точное определение «наставником» их сути и причин принципиального отказа «питомца» принять царскую милость, несмотря даже на посреднические усилия Карамзина, как и общее грустное впечатление, которое оставил в его душе разыгравшийся конфликт.
К концу лета 1821 г. Карамзин вполне осознал, что «черная хандра» Вяземского - опального «либералиста», предпочитающего отказ от службы компромиссам с разочаровавшей его властью, испытывающего растущие материальные трудности помещика, отца семейства, приближающегося к тридцатилетию, - это не просто болезнь молодости. В письме от 2 августа «наставник» прописал подопечному программу действий: «Старайтесь не скучать; пишите стихами и прозою; издавайте пословицы (любопытно, что потребность в таком издании тогда ощущал не только Карамзин - 17 июня 1821 г. цензурное разрешение на «Полное собрание русских пословиц и поговорок» получил Д.М. Княжевич. - И.П.\ старые наши песни с замечаниями, etc, etc. <.. > Экономьте, платите долги, а там, если пароксизм либерализма пройдет, выбирайте службу и место!» [Письма 1897, 114].
Спасение виделось в разумно выстроенной поведенческой стратегии Вяземского как литератора и помещика, причем при условии излечения от политического либерализма не исключалась и перспектива продолжения чиновничьего поприща. В результате одним из важнейших сюжетов дальнейшей переписки Карамзина, причем не только с Вяземским, стало обсуждение реализации им этой «программы». Правда, неурожайный 1821 г. был «для экономии не совсем хорош» [Письма 1897, 114]), так что активный диалог на «экономические» темы начался позднее.
Показательна история с июльским заданием Карамзина «скучающему» автору - «сочините эпитафию Наполеону» [Письма 1897, 113]. Этот сюжет Вяземского действительно волновал: недаром он просил Тургенева присылать «хоть на часок» все, «что о Наполеоне писаться будет» [Оста-фьевский архив 1899, 195, 196, 197]. Но для печатного выступления на заданную тему поэт, судя по ответному сентябрьскому письму «наставника», видел непреодолимые цензурные преграды. Карамзин же настаивал, что на могилу Наполеона можно «без ссоры с цензурою бросить несколько стихов <...>, блестящих мыслями, как перлами нетленными», поскольку «предмет высок и глубок, не в меру цензуре <...>, а потомство нашло бы тут истину, еще не весьма ясную современникам» [Письма 1897, 118].
Такая настойчивость Карамзина была закономерна в условиях неизменного на протяжении почти двух десятилетий интереса и в то же время эволюции в отношении Карамзина к исторической фигуре Наполеона и «наполеоновскому мифу», сформированному, кстати, не без участия ка- рамзинского «Вестника Европы». В первые послевоенные годы историограф задумывал специальную работу о современной истории, в которой, разумеется, Бонапарте играл первейшую роль. К середине 1810-х гг. в его письмах к великой княгине Екатерине Павловне появилось сопоставление французского императора и Ивана Грозного как «удивительных феноменов среди величайших и среди наихудших правителей» [Сайченко 2013, 52].
И хотя в советах Вяземскому Карамзин оставался верен приоритету писать «для потомства» [Карамзин 1898, 32, 34], выбор «предмета» обуславливался не только масштабом события, но и актуализацией в 1821 г. самой проблемы «злоупотребления силой» на мировой арене. А именно в этом историограф видел и вину, и беду - причину саморазрушения - наполеоновского режима (как он в 1813 г. писал Екатерине Павловне по-французски: «l’abus de la force la detruit») [Карамзин 1862, 113]. Потребность в оригинальной философски емкой эпитафии могла определяться и неудовлетворительным качеством оперативно появившихся в российской журналистике откликов на смерть Бонапарта, например, в июльском номере «Вестника Европы» Каченовского, который ограничился перепечаткой из французского журнала довольно тенденциозной подборки «выписок» из книги г-жи де Сталь «Десять лет изгнания» [Вестник Европы 1821, 201-210].
Неизвестно, что «умный князь» (так не без шутливости «наставник» нередко называл «подопечного») ответил (и ответил ли) на приведенные в сентябрьском письме Карамзина доводы и совет творить, изначально ориентируясь на «уровень» цензуры и адресуясь главным образом к потомству. Но в целом подобные установки должны были восприниматься либерально настроенным писателем с публицистическим темпераментом как неприемлемые. Об этом свидетельствует, например, письмо Вяземского Тургеневу в июне 1822 г, в котором в связи с его работой над заметкой об «Итальянской грамматике» Валерио манифестировался принцип «свободомыслие - способ мыслить свободного человека» обо всем и всегда, «оно - стихия» [Остафьевский архив 1899, 259].
В конце августа 1821 г, очевидно, под влиянием того, что В.Ф. Вяземская с детьми вполне благополучно вернулась из Польши и притом привезла «громаду похвальных листов <...> от всякого пола, возраста, звания», которые убеждали опального князя, что он «недаром прожил в Варшаве» [Остафьевский архив 1899, 204], его «черная хандра» понемногу пошла на убыль. Это проявилось в оживлении литературных занятий Вяземского и признаниях, что он «доволен» тем или иным своим опытом. Однако нельзя не заметить, что выбор тем и форм для литературной деятельности - от собственных произведений в различных жанрах до издательских усилий - мало связан с конкретикой предложений Карамзина от 2 августа. Да и удовлетворение Вяземского нередко вызывали как раз те фрагменты его произведений, которые, по его собственным прогнозам, могли подвергнуться (и подвергались) репрессиям цензуры [Остафьевский архив 1899,
224] и встречали критическое отношение Карамзина.
21 декабря 1821г. Карамзин в очередной раз написал Дмитриеву о своем меланхолическом настроении и, между прочим, сообщил о чтении критико-биографической статьи о нем, написанной «милым князем Петром, который при всем своем уме худо ладит с языком» [Письма 1866, 320]. Планируя сделать автору соответствующие замечания, Карамзин высказал и опасения насчет прохождения статьей цензуры. Разумеется, в письмах к самому Вяземскому неудовольствие Карамзина было выражено гораздо энергичнее. Причем его «союзниками» в критике не только стиля, но и идейно-политической заостренности материала оказались Д.Н. Блудов, В.А. Жуковский и даже «либералист» А.И. Тургенев. Они требовали от автора перестать «вольтерствовать», «притупить жало», «вымарать и деспота», поскольку, по словам Карамзина, «все это сказано и пересказано», а в результате «цензура не пропустит и хорошего, и весьма хорошего» [Письма 1897, 121].
Вяземский по-другому смотрел на свое сочинение, называя «литературной исповедью» и гордясь тем, что сумел заявить свою позицию как публицист - «во все горло и духовникам нашим не в бровь, а в самый глаз» [Письма 1904, 116]. Только в результате довольно жесткой полемики автор пошел навстречу некоторым требованиям «ареопага» во главе с Карамзиным и, конечно, собственно заказчика статьи - Вольного общества любителей российской словесности. В результате «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», первый вариант которого был создан еще в сентябре 1821 г, увидело свет в 1823 г. Не останавливаясь на конкретном содержании уступок, вылившихся в основном в сокращения (они подробно проанализированы исследователями [Гиллельсон 1969, 84-95]), подчеркнем сам факт компромисса, свидетельствующий о способности Вяземского, при всей его «непослушности» [Письма 1866, 331], к диалогу ради пользы общего дела, как воспринималась публикация о Дмитриеве его друзьями.
Конечно, еще сложнее было Карамзину влиять на психологическое состояние Вяземского. И после того, как «черная хандра» начала отступать, слишком многое в российской действительности, по его словам, наводило «тусклость на жизнь» и мешало ему чувствовать себя «комфортно» [Оста-фьевский архив 1899, 208]. «Ипохондрию» навевала «сама гнилая и смердящая почва» отсталой и плохо управляемой страны, где возмутительно больших усилий стоило даже прохождение через цензуру иностранных книг, приобретенных князем в Польше для личной библиотеки [Остафьев-ский архив 1899,215]. Карамзин умел смотреть на окружающее с большей терпимостью, видимо, помня, что философ - это тот, кто готов, сохраняя внутреннюю свободу, «ужиться в мире» [Клейн 2010, 238], и стремился внушить такую способность Вяземскому.
30 августа Карамзин, предполагая, что польские мытарства семьи шурина завершились и она благополучно воссоединилась в подмосковном имении, писал: «Мысленно смотрим на вас отсюда (из Царского Села -
Н.П.) в Остафьево: кажется, ваше лицо уже веселее, наш умный князь; хандра миновала; вы улыбаетесь сатирически, но не сардонически: так ли?» [Письма 1897, 116]. Стараясь убедить Вяземского в возможности успешно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам, «наставник» задавался философским вопросом: «В самом деле, чего недостает для вашего совершенного земного блага?» [Письма 1897, 116]. И перечислял материальные и нематериальные «богатства» князя, правда, несколько приукрашивая реальность: «Вы здоровы, молоды, имеете милое семейство, хорошее состояние, добрых приятелей, Остафьево, дворянский чин (выделено автором -//.77.), прибавлю: душу, разум, дарование» [Письма 1897, 116]. Из сказанного делался вывод: недостает адресату лишь «уменья наслаждаться» тем, что имеет, и хотя это умение «не безделица» - им можно овладеть [Письма 1897, 116]. Так в рассуждениях «наставника» появилась сентенция «Век живи, век учись... жить!» с шутливым добавлением известной пословицы: «Без науки и в попы не ставят» [Письма 1897, 116].
Карамзину явно нравилось изречение «Век живи, век учись... жить!». Уже 5 сентября 1821 г. оно, также названное «пословицей», перекочевало в письмо императрице Елизавете Алексеевне с предположением «вписать» его вместе с другими «новыми строками» в ее «Album» [Карамзин 1862, 50]. Это было бы вполне уместно, т.к. подразумеваемый «Альбом с различными выписками», подаренный ей Карамзиным в начале 1821 г, составляли отрывки из размышлений на самые разные темы - от политики и религии до любви и дружбы - известнейших европейских философов на французском языке (хотя и с заголовками по-русски) и подборка «Русские пословицы». Среди них, кстати, было изречение «Богу молись, а сам не плошай» [Карамзин 1821, 48-об]. Высказывание же «Век живи, век учись - жить!» обыгрывалось автором и в подписи к цитированному письму Елизавете Алексеевне: от «верного историографа, который, следуя пословице, неутомимо учится, но уже не выучится по-новому, и даже любит Вас по-старому» [Карамзин 1862, 50].
Надо сказать, что только в письме императрице Карамзин посчитал нужным уточнить, что эту «пословицу» все знают, но «без окончательного слова («жить» - И.П.), которое важно» и было найдено им «недавно в одной древней рукописи» [Карамзин 1862, 50]. Тем не менее, в современных авторитетных изданиях русских паремий (Пословицы, поговорки, загадки в русских сборниках XVIII - XX веков. М.; Л., 1961; Большой словарь русских пословиц. М., 2010) приведенный Карамзиным дополненный вариант изречения «Век живи, век учись» отсутствует. В то же время в сборнике почитавшегося Карамзиным И.Ф. Богдановича, достаточно вольно переложившего русские пословицы стихами, содержатся сентенции, по смыслу по крайней мере отдаленно напоминающие карамзинскую: «Век живя-скать век трудись, / И трудяся век учись» и «Догадка знания мудрее / А в свете жить уметь и всех наук хитрее» [Богданович 1785, 9].
Еще интереснее то, что через десять лет после «находки» Карамзина И.М. Снегирев, один из первых отечественных фольклористов, коммен- тировал смысл пословицы «Век живи, век учись» так, будто знал о дополненном ее варианте: «Поставляя достижение высшего совершенства в жизни высшею целью человека, предки наши почитали все возрасты учением (выделено нами -//.77.)». Рассматривая далее историю формирования и освоения пословичного фонда в целом, ученый упомянул и о роли Карамзина, и о значении разного рода заимствований. Среди их источников были названы и письма римского стоика Сенеки, благодаря которым «сохранилось» множество «старинных латинских поговорок и пословиц» [Снегирев 1831, 159-160; 22; 42-43].
Представляется, что именно в «Нравственных письмах к Луцилию» Сенеки, которые в той или иной мере давно были известны русским книжникам и переводились в близком в 1780-е гг. Карамзину кружке Н.П. Новикова [Салимгареев 2016, 84], мог почерпнуть Карамзин сентенцию, процитированную им в письмах к Вяземскому и императрице. В письме LXXYI Сенека на вопрос друга о его занятиях отвечает, что «слушает философа», и старость тому не помеха так же, как и посещению театра, ведь надо учиться, «покуда чего не знаешь». По ходу рассуждения римский автор ссылается на пословицу «Век живи - век учись». А заключает этот фрагмент сентенция, которая в современном переводе на русский практически дословно совпадает с приведенной Карамзиным: «век живи - век учись тому, как следует жить» [Сенека 1977, 145]. При этом через несколько строк Сенека признавал, что все же есть в мире то, «чему в старости едва ли обучишься». Таким образом, можно предположить, что в процитированной выше шутливой подписи Карамзина к письму Елизавете Алексеевне обыгрывалась не только «пословица», почерпнутая у римского философа и моралиста, но и дальнейший ход его размышлений, безусловно, близкий «стареющему» историографу.
Если сентенция «Век живи, век учись - жить!» действительно восходит к Сенеке, то не вполне ясно, почему Вяземскому Карамзин ничего не сообщил об источниках, а от императрицы утаил знаменитое имя, лишь сослался на «одну древнюю рукопись». Возможно, это дань «игровым» традициям в эпистолярном жанре, что более подходило для корреспонденции Елизавете Алексеевне, при этом Вяземский мог знать источник. Нельзя, наверно, исключать и характерного для Карамзина нежелания показаться излишне дидактичным, а имя Сенеки ассоциировалось именно с такой интенцией (в этой связи показательна ироничная реакция Жуковского на слова А.И. Тургенева, что он иногда с пользой для себя перечитывает письма друга с рассуждениями о должном устройстве жизни: «Но разве я пишу тебе эпистолы а Та Seneque?» [Письма 1895, 87]). Решение умолчать об авторе пословицы, пусть не демонстрирующей какой-либо специфически стоической идеи, можно, думается, связать и с давно заявленным Карамзиным дистанцированием от стоиков, которое проявилось еще в его «Разговоре о счастии» в 1797 г. Тогда в реплике Филалета они критиковались за недостаток сердечного энтузиазма и теплоты [Карамзин 2008, 30].
В целом сопоставление «Разговора о счастии», эссе «О счастливейшем времени жизни» и писем «наставника» опальному Вяземскому обнаруживает, что ключевые для карамзинской «науки жить» суждения - об относительности «возможного земного счастья» и о зависимости его главным образом не от внешних условий жизни человека, а «уменья наслаждаться» тем, что имеешь, которые прозвучали еще в произведениях рубежа веков, продолжали транслироваться в 1821 г. Нельзя не заметить, например, близости реплики Филалета о значении способности человека «находить в жизни многие истинные приятности, не скучать ею, не роптать на судьбу, быть довольным» [Карамзин 2008, 30] и пожелания Карамзина Вяземскому в письме 30 сентября 1821 г: «Будьте, право, веселы: сколько приятностей в жизни имеете и еще иметь можете!» [Письма 1897, 118]. Во всех названных текстах так или иначе утверждалась очень точно выявленная и в зависимости от конкретной ситуации формулируемая необходимость психологической самонастройки для желающего научиться «пользоваться жизнью» - «смотреть на мир с того места, на которое он поставлен судьбой», и искать «удовольствий на своем горизонте, вокруг себя», в себе, не мучаясь воображаемой «тысячью отрав» [Карамзин 2008, 36, 37].
При этом в течение почти четверти века размышлений о «науке жизни», по сути неотделимой от поисков «средства быть счастливым», Карамзину удалось повлиять на расширение самого значения слова «счастие». В этом отношении интересны разборы синонимов «счастие» («щастие»), «благополучие», «блаженство», опубликованные в журналах начала века дебютировавшим в печати Н.П. Гречем и Д.М. Княжевичем (правда, оставившим без внимания лексему «блаженство») [Греч 1805, 139-140]; [Кня-жевич 1812, 84-88]. Оба автора традиционно связывали «счастие» только с «удачей», «случаем», находившимися «вне» воли человека, и в этом усматривали принципиальное отличие «счастия» от «благополучия», хотя оба слова признавались синонимами для обозначения «обстоятельств, которые делают человека довольным своим положением» [Княжевич 1812, 84]. Сравнение подобных дефиниций с рассмотренными выше высказываниями Карамзина подтверждает справедливость мнения современных исследователей - психологов и лингвистов об его особой роли в утверждении того «концепта счастье», которое дошло до нашего времени [Вербицкая 1999, 60].
Советы Карамзина «учиться жить», наслаждаясь имеющимися «благами» и не заглядывая за «свой горизонт», Вяземский, судя по его переписке, услышал, но принять полностью не мог. В письме Тургеневу от 12 октября, вернувшись к анализу своего психологического состояния, «ссылочный», как назвал себя Вяземский, соглашался, что в его жизни оставалось немало «положительного» - «любовь к семейству, дружба к друзьям, довольно живая склонность к занятию» - и что «с этим душа не умрет». Но за эмоциональным «Так!» [Остафьевский архив 1899, 216] вновь следовали возражения - сомнения в достаточности для него такого «горизонта».
Иной, чем Карамзин, психоэмоциональный тип личности, «либера-лист» Вяземский в 1821 г. не мог не испытывать уныния и/или негодования

(недаром эти понятия вынесены в заголовки двух по сути программных его стихотворений) в условиях значимых для него ограничений свободы самовыражения, как он ее понимал. Обращаясь к Тургеневу, психологически и идеологически ему более близкому, Вяземский восклицал: «Молись за нас, чающих движения!» [Остафьевский архив 1899, 216]. Вскоре Тургенев примирительно ответил остафьевскому «пустыннику»: «Ты ищешь утешений в лучших потребностях души, и этого уже довольно для нашего успокоения» [Остафьевский архив 1899, 216]. Сложно сказать, кого имел в виду автор, выступая от имени некоего сообщества, кому принесли «успокоение» отнюдь не благостные признания Вяземского, и был ли среди них Карамзин.
Как бы то ни было, трудный эпистолярный диалог Карамзина с его «питомцем», в котором важнейшее место занимало обсуждение эмоциональных реакций и конкретных действий и/или общих поведенческих стратегий Вяземского в постоянно меняющихся и нередко драматических (даже трагических, если говорить о конце 1825 - первой половине 1826 гг.) ситуациях, развивался до последних дней жизни «наставника». А в сознании Вяземского продолжался и позднее, что показывает, в частности, процитированный нами в начале статьи его отклик на издание писем Карамзина в 1866 г.
Список литературы "Наука жить" в письмах Н.М. Карамзина и П.А. Вяземского 1821 г
- [Богданович И.Ф.] Русские пословицы: в 3 ч. СПб., 1785.
- Вацуро В.Э. Из неизданных писем Карамзина / публ. В.Э. Вацуро // Русская литература. 1991. № 4. С. 88-99
- Вербицкая В.В. Концепты счастье, благополучие, благо в конце XVIII - первой трети XIX века: на материалах произведений Н.М. Карамзина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История языкознания. Литературоведение. 1999. Вып. 4 (27). С. 60-66.
- Выписки о Буонапарте // Вестник Европы. 1821. № 13. С. 201-210.
- Клейн И. «Искусство жить» у Карамзина («Письма русского путешественника») // Художественный перевод и сравнительное изучение культур. СПб., 2010. C. 232-244.
- К.Ф. [Княжевич Д.М.] Опыт разбора русских синонимов. Счастие. Благополучие // Сын Отечества. СПб., 1812. С. 84-88.
- Лазарчук Р.М. Переписка Н.М. Карамзина с А.А. Петровым (К проблеме реконструкции «романа в письмах» // XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 501-518.
- Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1820-1823. СПб., 1899.
- Пекарский П.П. Фрагменты писем Н.М. Карамзина и Е.А. Карамзиной к И.И. Дмитриеву , опущенные при издании книги "Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву". СПб., 1866 // ОР РГБ. Ф. 439 (В.А. Десницкого). Картон 31. Ед. хр. 7.
- Прохорова И.Е. «Письма Н.М. Карамзина к князю П.А. Вяземскому (1810- 1826)»: «парный портрет» адресата и адресанта и его функции // Mikolaj Karamzin i jego czasy. Studia Rossica. Т. 24. Warszawa, 2017. P. 41-49.
- Салимгареев М.В. Наследие Сенеки в интеллектуальных и культурных практиках XVIII столетия // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 1. С. 83-86.
- Сапченко Л.А. «Верьте моей искренности и дружбе…» (письма Н.М. Карамзина к А.И. Тургеневу) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. Т. 1. № 4. С. 78-81.
- Сапченко Л.А. Зеркало души: Н.М. Карамзин по его письмам. Ульяновск, 2016.
- Сапченко Л.А. «Мир достигает высочайшей степени развращения» (нравственно-философские взгляды Н.М. Карамзина по его письмам) // Духовно-нравственный и эстетический потенциал русской литературной классики. М., 2013. С. 50-54.
- Сапченко Л.А. Польская тема в письмах Н.М. Карамзина к П.А. Вяземскому // Русская литература XVIII-XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций. Lodz, 2010. С. 9-17.
- Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
- Фрик Т.Б. Переписка Н.М. Карамзина с членами царствующего дома как литературный факт (к постановке проблемы) // Вестник науки Сибири. Сер. 9: Филология. Педагогика. 2011. № 1 (1). С. 599-603.