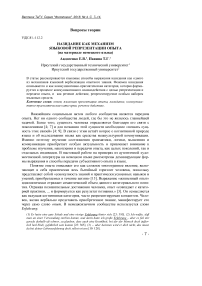Назидание как механизм языковой репрезентации опыта (на материале немецкого языка)
Автор: Авдосенко Елена Валериановна, Панина Татьяна Геннадьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются языковые способы выражения назидания как одного из механизмов языковой вербализации опытного знания. Феномен назидания описывается и как коммуникативно-прагматическая категория, которая формируется в процессе коммуникативного взаимодействия с целью репрезентации и передачи опыта, и как речевое действие, репрезентируемое особым набором языковых средств.
Опыт, языковая презентация опыта, назидание, коммуникативно-прагматическая категория, речевое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/146281329
IDR: 146281329 | УДК: 81.-112.2
Текст научной статьи Назидание как механизм языковой репрезентации опыта (на материале немецкого языка)
Важнейшим социальным актом любого сообщества является передача опыта. Нет ни одного сообщества людей, где бы это не являлось главнейшей задачей . Более того, сущность человека определяется благодаря его связи с поколениями [4; 7] и для познания этой сущности необходимо «познать сущность этих связей» [4: 9]. В связи с этим встаёт вопрос о когнитивной природе языка и об исследовании языка как средства межкультурной коммуникации. Именно поэтому изучение соотношения грамматики, логики, мышления и коммуникации приобретает особую актуальность и привлекает внимание к проблеме изучения, накопления и передачи опыта, как целых поколений, так и отдельных индивидов. В настоящей работе на примерах из аутентичной художественной литературы на немецком языке рассмотрены доминирующие формы выражения и способы передачи субъективного опыта в языке.
Понятие опыта описывает его как сложное многогранное явление, включающее в себя практически весь бытийный горизонт человека, поскольку представляет собой «совокупность знаний и практически усвоенных навыков и умений, приобретаемых в течение жизни» [15]. Выражение «жизненный опыт» идиоматически отражает семантический объем данного категориального понятия. Отражая познавательные достижения человека, опыт «совпадает с категорией практики, ... и формируется как результат познания.» [3]. Он осмысляется как ведущая когнитивная категория, часто репрезентируемая концептом. Человек, желая вербально представить приобретенное знание, манифестирует его через само слово опыт . В немецкоязычном сообществе используется слово Erfahrung :
-
(1) Er hatte eine gute Schule und eine riesige Erfahrung hinter sich [23: 310]. (2) Ich wußte, daß man an einer Verwundung sterben konnte, und darin hatte ich große Erfahrung – aber es fiel mir gerade deshalb oft schwer, zu glauben, dass auch eine Krankheit, bei der der Mensch doch äußer-lich heil blieb, gefährlich sein konnte [23: 365]. (3) ... aber heiraten wird er dich nicht, das musst du bei deiner Lebenserfahrung doch selbst wissen [19: 128].
Опыт может выступать как «событие», «действие», «перцептивный процесс», «вовлечённость», «факт», «телесное состояние», «эмоциональное состояние» и др. [12]. Он может рассматриваться и как научение, когда «в фокус внимания выносятся модификации, изменения существующего ментального состояния / знания индивида, которые способствуют его успешному функционированию в среде» [там же].
В настоящей статье опыт рассматривается не как биокогнитивный параметр индивида, отражающий его встроенность в окружающую среду и степень взаимодействия с элементами данной среды, а как бытийный горизонт человека, вмещающий в себя «жизненное» знание, характеризующее человека личностно и социально. В таком понимании опыт характеризуется субъектностью [2: 16], определяется локальностью и индивидуальностью восприятия [12], а становясь фактором индивидуализации личности, опыт ситуативен и конкретен. Опыт наделён интенциональностью [14], поскольку ориентирован на другого индивида в акте коммуникативного взаимодействия, объективируясь в языковых формах в рамках определенных дискурсивных стратегий. В связи с такой постановкой вопроса следует еще раз подчеркнуть такой аспект феномена опыта как его транслирование и озвучивание в процессе межличностного общения.
Одним из механизмов языковой вербализации опытного знания является использование форм назидания в ходе развертывания поучающего дискурса [1]. В качестве содержания поучающего дискурса всегда выступают жизненный опыт, знания, убеждения, ценностные ориентации, которые один человек хотел бы сделать достоянием другого. Целью говорящего является введение в картину мира реципиента новых значений, сообщение ему знаний о неизвестных ему элементах окружающей действительности, на основе которых возможно изменение поведения реципиента и его отношения к действительности. Новая информация способна изменить представления реципиента о взаимосвязях в окружающей действительности и, следовательно, изменить его отношение к вещам, событиям, элементам действительности.
Феномен назидания может рассматриваться в двух аспектах. В общефилософском аспекте назидание выступает как коммуникативно-прагматическая категория, характеризующая модус коммуникации. При лингвистическом подходе назидание определяется как речевое действие, получающее конкретную языковую актуализацию с помощью языковых средств соответствующего языка. Речевое действие назидания вмещает в себя такие речевые действия как убеждение, аргументация, внушение, упрёк. Спектр иллокуций назидания как речевого действия весьма широк. Он независим от коммуникативных отношений между собеседниками, равноправных (равных по социальному и/или правовому статусу) или неравноправных (равных по возрастному, гендерному, должностному и др. факторам) [6: 103].
В категориальном аспекте назидание не подлежит характеристике с позиции «хорошо-плохо», оно стоит над оппозицией положительного и отрицательного, так как предметом назидания всегда является опыт. Используемое с целью заставить что-либо сделать или что-то предотвратить, назидание может быть обоснованным или необоснованным, осознанным и бессознательным действием, полезным или бесполезным, способствующим достижению каких либо целей или нет. Оно не бывает пассивным, поскольку формируется в процессах деятельности активного субъекта через непрерывное взаимодействие и при взаимосвязи внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, индивидуального и социального. Назидание характеризуется предельной процес-суальностью, динамичностью, непрерывностью. Как и все виды психической деятельности, назидание онтологически не существует как отдельный обособленный акт, и отграничить его возможно только в целях научного анализа, а в жизнедеятельности человека оно существует с другими психическими процессами.
Передача опыта в речевом действии назидания имеет форму воздействия на собеседника с позиций нравственных норм общества: добра и зла, справедливости и несправедливости, искренности и неискренности, этичности и не-этичности и т.д. Кроме интеллектуального и волевого существует эмоциональное воздействие, ведь акт назидания предполагает не просто изменение поведения другого человека в рамках понятия «заставить» [8: 83], а желание затронуть уровень установок, убеждений в рамках понятия «убедить» [там же] без использования каких-либо манипулятивных приёмов.
Превалирующим является именно «интеллектуальное» воздействие, т.е. воздействие через интеллект в сочетании с воздействием на чувства и волю, выступающее как «убеждение» [9: 289], а не воздействие через чувства и волю на интеллект, представленное как «внушение» [там же]. Основой назидательного процесса является передача опыта, знаний; воздействие, формирующее душу и сознание, а не простое подчинение своей власти и воле другого человека [10]. Поэтому «даже успех можно оценить не только как удачу, но и как преграду для дальнейшего научения, тогда как неудача может дать неоценимую возможность научиться чему-то, чего бы вы иначе не заметили» [5: 38]. Таким образом, можно утверждать, что речевой акт назидания имеет своей целью актуализацию личностного опыта говорящего и его вербализацию в таких языковых формах, которые позволяют воздействовать на собеседника, заставить его поступать в соответствии с предъявленным знанием о том или ином фрагменте окружающей действительности.
К языковым средствам, эксплицирующим и имплицирующим категорию назидания, относятся прежде всего модальные глаголы. Стремясь представить собеседнику свой жизненный опыт и убедить его в принятии этого опыта, говорящий очень часто оперирует именно языковой модальностью, используя модальные глаголы с целью дидактического воздействия на собеседника.
Используемые в таком контексте модальные глаголы, при формальном сохранении своего языкового значения, приобретают новый коммуникативный смысл, рождённый интенцией говорящего представить свое знание о возможности и необходимости и убедить собеседника в принятии некоторого знания.
Например, модальный глагол können для описания положения собеседника du kannst создает основу для описания личного опытного знания. В приведенном ниже примере описывается беседа молодой женщины с отцом своей подруги, который воспринимает ее как свою дочь и пытается внушить ей, какие возможности перед ней открываются, если учиться:
-
(4) A nfangs hielt ich es für eine Katasrophe, dass du mit 18 Jahren ... Aber wenn ich recht bedenke, dann kommt Bela in drei Jahren in den Kindergarten, und du bist immer noch blutjung und kannst
studieren. Ich kenne inzwischen viele Frauen, die zuerst das Examen machen und eine Stellung annehmen und die schließlich die Karriere nur ungern unterbrechen, um Kinder zu kriegen [21: 124].
В следующем фрагменте, где представлена беседа двух незнакомых женщин, одна из которых значительно старше своей собеседницы, сочетание модальных глаголов können и dürfen используется как приём назидания . Модальный глагол wollen отражает в данной ситуации удивление неопытностью собеседницы:
-
(5) Was wollen Sie! Wir sind alte Leute. Alte Leute dürfen nicht klagen. Mein Mann und ich, wir haben unser Leben eingerichtet. Manches gefällt uns nicht, na gut, können wir das Leben ändern? Nee. Aber der Mensch darf keine Schwäche zeigen, im Alter gleich gar nicht. Wer Schwäche zeigt, hat schon verloren [17: 325].
Модальный глагол müssen , имеющий семантику личного долженствования, может быть также употреблен для побуждения к действию и используется говорящим для демонстрации своего сложившегося понимания и знания о действительности. В представленном фрагменте описан разговор отца с сыном, который спрашивает совета, как поступить правильно, когда он (молодой человек) встречает в зале суда любимую женщину, обвиняемую вместе с группой СС:
-
(6) Natürlich muss man handeln, wenn die von dir beschriebene Situation eine Situation zugewachsener oder übernommener Verantwortung ist. Wenn man weiß, was für den anderen gut ist und dass er die Augen davon verschließt, muss man versuchen, ihm die Augen zu öffnen. Man muss ihm das letzte Wort lassen, aber man muss mit ihm reden, mit ihm, nicht hinter seinem Rücken mit jemand anreden [26: 136–138].
Модальный глагол в следующем фрагменте, описывающем разговор двух подруг, одна из которых, встречалась с мужчиной значительно моложе себя и надеялась построить с ним «серьёзные отношения», также отражается интенция поучения со стороны говорящего и передаётся знание о сложившейся данности:
-
(7) ... aber heiraten wird er dich nicht, das musst du bei deiner Lebenserfahrung doch selbst wissen... Er sucht eine Mutti, die ihm Hustenbonbons aus der Apotheke mitbringt und ihm ihr Auto borgt. Irgendwann, wenn du müde von der Arbeit nach Hause fährst, siehst du ihn mit einer zwanzigjährigen händchenhaltend am Neckar sitzen [19: 128].
Эффект назидания в целях передачи личностного жизненного опыта может создаваться кроме модальных глаголов языковой конструкцией, основанной на последовательной цепочке императивных синтаксических структур, что позволяет говорящему создавать назидательную коннотативность и оценочность высказывания. Так, в следующих примерах говорящий использует приём многократного императива, пытаясь через поучение передать своё мировидение, своё знание о том, как следует вести себя в описываемой ситуации:
-
(8) Merke dir eins, Knabe: Nie, nie, nie kann man sich lächerlich bei einer Frau machen, wenn man etwas ihretwegen tut. Selbst beim albernsten Theater nicht. Mach, was du willst – steh Kopf, rede den dümmsten Quatsch, prahle wie ein Pfau, singe vor ihrem Fenster, nur eins tu nicht; sei nicht sachlich! Nicht vernünftig! [23: 458].
Назидание, формируемое говорящим в форме многократно эксплицированного императива, выступает как прогноз негативных последствий, а также как побуждение к действию. Данный факт иллюстрирует и следующий фрагмент разговора пожилого мужчины с молодой женщиной, ведущей легкомысленный образ жизни : (9) Wenn du nicht verkommen willst, Minnie, dann musst du dein Leben ändern. … Treib dich nicht herum, sondern arbeite. Und halt dich sauber, das zuerst mal. Damit fängt die ganze Sache ein [18: 75–76].
Ситуация общения пожилого профессора и студента, обучающегося на юридическом факультете, но мечтающего стать писателем, поэтому пропускающего занятия в университете, заставляет обладающего жизненным опытом старшего собеседника использовать императивные формы с целью манифестации своего опыта и передачи его своему более молодому слушателю:
-
(10) Führen Sie die Behörden weiterhin in die Irre, studieren Sie in drei Teufels Namen zu Ende, mit Ihrer Gerissenheit werden Sie das Examen schon schaffen. Studieren Sie zu Ende und betrachten Sie das Diplom als Notgroschen. Aber werfen Sie nichts weg, Bienek, bevor nicht erwiesen ist, dass Sie es niemals wieder brauchen können [16: 68–69].
Конструкция с многократным инфинитивом становится языковым механизмом, в котором заложена возможность передать поучающее знание, то есть знание-опыт о деонтическом характере взаимодействия с окружающим миром.
Повторяющаяся конструкции с инфинитивной формой глаголов также используется для передачи опыта, для описания того, как следует поступать в определенной жизненной ситуации: (11) Nie entschuldigen , Baby. Nie reden. Blumen schicken . Ohne Brief. Nur Blumen. Die decken alles zu. Sogar Gräber [23: 131].
Номинализация, выступая как прагматический синоним многократного императива и повторяющихся инфинитивных форм глагола, создает эффект назидания. В примере ниже описывается ситуация, когда молодая женщина намеревается отправиться к своему мужу на Северный полюс, чтобы «пережить» полярную ночь, и получает советы, как следует воспринимать предстоящие будни: (12) Madam, wenn Sie gut überwintern wollen, dann merken Sie sich drei Sachen: Jeden Tag eine Spaziertour, auch in Winternacht und Stürme, das ist so wichtig wie Еssen und Trinken. Immer Humor! Niemals bedenklich, ich meine: niemals sorgenvoll sein! Dann geht es so schön [25: 19–20].
Инфинитивный императив используется говорящим при создании призыва к действию, как показано во фрагменте разговора пожилой женщины, больной раком, со своей приятельницей, которая, несмотря на собственные трудности и проблемы, пытается подбодрить подругу, отмечая её меланхолическое настроение. (13) Eine Krankheit bringt auch eine neue Impulse, überhaupt alles Schwere, das man übersteht! Hören Sie, Frau Hirte, wichtig ist: Niemals aufgeben ! [20: 121].
Назидание как речевой механизм может выполнять функцию регулирования действий другого человека. Говорящий пытается направить вектор поступков и мотивов реципиента в ту сторону, где находится горизонт бытийного опыта самого говорящего, где сформировано его знание о том, как устроена реальность, как осуществляется взаимодействие внутри данной реальности.
Эгоцентричность «я-высказываний» при передаче опыта может быть нивелирована формой конъюнктива II. Формы конъюнктива звучат ненавязчиво, тактично и помогают говорящему отойти на задний план и представить пропозицию с нескольких сторон. Данную мысль можно проиллюстрировать на примере разговора пожилого врача с молодым человеком, чья девушка смертельно больна.
-
(14) Ich bin jetzt bald sechzig, aber ich konnte das nicht. Ich wurde immer wieder alles versuchen, immer wieder, und wenn ich genau wüsste, dass es zwecklos wäre .... Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Das andere sind Möglichkeiten. Man muss sehen, wie es oben wird. Aber ich hoffe be-stimmt, dass sie im Fruhjahr zuruckkommem kann [23: 32].
Противопоставление конъюнктива индикативу в «я-высказываниях» оправданно. Индикатив имеет в таких высказываниях оттенок категоричности, а конъюнктив связывается с более осторожным, не столь определённым утверждением [13: 86]. Данное противопоставление (конъюнктив - индикатив) воспринимается как оппозиция «субъективно-окрашенное» - «субъективнонейтральное», понятная слушающему и являющаяся интенцией говорящего в беседе о реальных фактах. Конъюнктив с модальными глаголами представляет ситуацию как ирреальную, описывающую возможное развитие событий. В первом примере описывается беседа пожилой женщины с подругой своего внука, которая намеревается выйти замуж за мужчину значительно старше. Во втором фрагменте учительница даёт совет своей ученице, которую обижают одноклассники :
-
(15) Ich habe selbst viel falsch gemacht, aber fremde Erfahrung konnen bekanntlich wenig helfen. Außerdem gibt es keine Märchenprinzen, alle Menschen haben tückische Abgründe ... Meine Enke-lin Cora hat einen reichen Mann geheiratet, der gut und gern ihr Vater sein könnte . Sie ist in Ihrem Alter und bereits Witwe [22: 82]. (16) Maja Westermann, solche Scherze geben sich mit der Zeit! Im üprigen solltest du die Kraft eines Elefanten nicht gering veranschlagen, eine starke Frau ist etwas Erstrebenswertes [21: 12].
Ситуацию поучения с использованием форм коньюнктива можно наблюдать и в следующих фрагментах художественных произведений, когда воспитанница пансионата поучает свою избалованную подружку, только что прибывшую в пансионат, описывая последствия её поведения, а пожилая женщина, свекровь, поучает свою невестку тому, как правильно следует выстраивать отношения с мужем, чтобы не разрушить семью:
-
(17) Willst du deine Bucher so an Fraulein Raimar vorzeigen? Das darfst du nicht. Hat deiner Herr Pastor dir dies erlaubt? Gib schnell, ich will dich blaues Umschläge drum wickeln! Das ist nett, und man sieht die alte Flecken nicht…Nicht so zörnig, Fräulein Ilse! Sie sind eine kleine, unordentliche junge Dame. Würde es dir vielleicht spaßig sein, wenn Fräulein Raimar dein Buch mit spitze Finger hochhielte und sie alle Lehrer zeigte? O nein, das wäre dich nicht einerlei und nicht spaßig. Besonders wenn Herr Doktor Althoff, unser deutscher Lehrer, mit seine bekannte, hohnische Lachen dir so von die Seiten ansieht und fragt: «Wie alt sind Sie, mein Fraulein? [24: 44].
-
(18) Zu einer Waschmaschine wurde ich ihm zureden, nicht zu ‘nem Kind. Sieh doch ein, Madchen, mit Gewalt werden dein Kind und dein Mann nie Freunde. Klar bin ick dafür, dass ihr’n Kind grosszieht, tausendmal dafür. Aber freiwillig von beiden Teilen …Wenn zwei sich liebhaben, müssen sie das einander beweisen. Sobald das nicht passiert, entsteht’n Riss, und der Riss wird von Tach zu Tach grosser, undplotzlich stellste fest, du liebst den anderen nicht mehr, du brauchst’n nicht. [17: 285-286].
Подводя итоги, констатируем, что анализ коммуникативных ситуаций, представленных в литературных источниках, позволил выявить один из механизмов репрезентации и передачи приобретенных знаний об окружающей действительности субъектом коммуникативного взаимодействия. Он реализуется в речевом действии назидания как вида поучения. В назидании, направленном на формирование ценностных установок и когнитивного ориентира реципиента, порисходит передача опыта-знания. Существенно, что в исследовании были выявлены и описаны языковые формы, которые помогают говорящему передать определённый фрагмент личностного опыта, призванного по замыслу говорящего организовывать жизненное пространство того, кому данный опыт должен быть передан. Установлено, что назидание как речевое действие репрезентирует себя, прежде всего, через определённые формы глаголов, создающие в процессе коммуникации механизм поучения, лежащего в основе назидания.
Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. 256 с.
Список литературы Назидание как механизм языковой репрезентации опыта (на материале немецкого языка)
- Авдосенко Е.В. Коммуникативно-прагматическая категория назидания в поучающем дискурсе в современном немецком языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2003. 222 c. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16007351
- Бергфельд А.Ю. Эмоциональный опыт как теоретический конструкт//Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2010. №1. С. 39-46.
- Большая советская энциклопедия: Словари и энциклопедии на Академике . URL: http://dic.academic.ru
- Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. 64 с.
- Бэндлер Р. Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых стратегий. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. 256 с.
- Гейко Е.В., Буренкова А.А. Реализация речевого жанра «Назидание» в различных коммуникативных ситуациях//Вестник СИБИТа, 2014. №3 (11). С. 102-106.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. Т.1. 336 с.
- Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002. 480 с.
- Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Изд. корпорация «Логос», 2008. 384 с.
- Ильин Е.П. Психология воли. СПб: Изд-во «Питер», 2009. 368 с.
- Касавин И.Т. Опыт как знание о многообразии//Философия науки и техники. 1996. №1. С.49-76.
- Макарова Е.А. Лингвистические аспекты взаимосвязи категории experience с категорией knowledge в современном английском: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2008. 180 с.
- Милосердова Е.В. О роли модальных компонентов высказывания в представленности личности говорящего//Когнитивные аспекты языкового значения 2: Говорящий и наблюдатель: Межвузовск. сб. науч. тр. Иркутск: ИГЛУ, 1999. С. 33-38.
- Мироненкова Н.Н. Многоуровневая структура опыта учащегося в контексте смыслообразования//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2015. №2 (159). С. 43-51.
- Толковый словарь Ожегов С.И.: Словари и энциклопедии на Академике . URL: http://dic.academic.ru