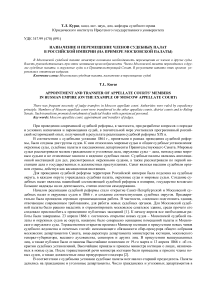Назначение и перемещение членов судебных палат в Российской империи (на примере Московской палаты)
Автор: Курас Т.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (33), 2011 года.
Бесплатный доступ
В Московской судебной палате зачастую возникала необходимость перемещения ее членов в другие суды. Власть руководствовалась при этом мотивами целесообразности. Члены Московской палаты переводились в другие судебные палаты, в окружные суды и в Правительствующий Сенат. В результате штаты этих органов укреплялись опытными кадрами.
Московская судебная палата, назначение и перемещение судей
Короткий адрес: https://sciup.org/142142327
IDR: 142142327 | УДК: 347.99
Текст научной статьи Назначение и перемещение членов судебных палат в Российской империи (на примере Московской палаты)
При проведении современной судебной реформы, в частности, при разработке вопросов о порядке и условиях назначения и перемещения судей, в значительной мере учитывался прогрессивный российский исторический опыт, полученный в результате реализации судебной реформы XIX в.
В соответствии с судебными уставами 1864 г., принятыми в рамках проведения судебной реформы, были созданы две группы судов. К ним относились мировые судьи и общие судебные установления: окружные суды, судебные палаты и кассационные департаменты Правительствующего Сената. Мировые судьи рассматривали мелкие гражданские и уголовные дела, окружные суды - дела, неподсудные мировым судьям и не отнесенные законом к ведению судебных палат. Судебные палаты являлись апелляционной инстанцией для дел, рассмотренных окружными судами, а также рассматривали по первой инстанции дела о государственных и должностных преступлениях. Сенат являлся высшим судебным органом страны, действуя как кассационная инстанция.
Для проведения судебной реформы территория Российской империи была поделена на судебные округа, в каждом округе учреждалась судебная палата, окружные суды и мировые судьи . Создание судебных палат являлось важнейшей составляющей судебной реформы в империи, государство возлагало большие надежды на их деятельность, считая оплотом самодержавия.
Началом реализации судебной реформы стало открытие Санкт-Петербургской и Московской судебных палат и окружных судов в 1866 г. и создание соответствующих судебных округов. Предварительно была проведена огромная организационная работа. В частности, следовало подготовить здания, отвечающие современным требованиям, для работы новых судебных органов . Для Московской судебной палаты было решено выделить и отремонтировать московское сенатское здание, среди прочего его следовало приспособить к проведению публичных заседаний [1]. К началу апреля все необходимые работы были завершены. 23 апреля 1866 г. состоялось открытие новых судов - Московской судебной палаты и окружных судов ее округа, накануне было совершено освящение помещений палаты и Москов -ского окружного суда. Торжественное открытие произвел Министр юстиции в присутствии новых чинов судебного ведомства и почетных гостей: исполняющего обязанности обер-прокурора общего собрания московских департаментов Сената, вице-директора департамента министерства юстиции, московского генерал-губернатора, высшего духовенства, сенаторов и других лиц. В присутствии вышеуказанных лиц, а также публики были оглашены Высочайшие повеления от 19-го марта и 13 апреля 1866 г. об открытии судебных установлений, Высочайшие приказы и приказы министра юстиции о лицах, назначенных в новые суды. После торжественной речи министра юстиции были приведены к присяге члены новых судов, а также должностные лица прокурорского надзора [2].
В соответствии с судебными уставами судебные палаты возглавлял старший председатель. Палаты делились на гражданские и уголовные департаменты. Число гражданских и уголовных департаментов в каждой из палат было различным и зависело от штатной численности членов палаты. К примеру, к началу 1915 г. Московская судебная палата состояла из шести департаментов (трех гражданских и трех уголовных). Для сравнения: Санкт-Петербургская и Варшавская судебные палаты состояли из восьми департаментов; Харьковская и Тифлисская - из шести; Киевская - из пяти; Саратовская и Одесская - из четырех; Казанская и Виленская - из трех; Новочеркасская, Ташкентская, Иркутская и Омская - из двух [3].
Таким образом, Московская судебная палата являлась одной из самых крупных палат в Российской империи.
Департаменты палат состояли из председателя и определенного штатами числа членов. При каждой палате состоял прокурор и определенное число его товарищей, действовавших под его руководством. Прокуроры окружных судов подчинялись прокурорам палат, а последние - министру юстиции. В связи со значимым местом палат в судебной системе закон предъявлял высокие требования к должностным лицам этих судов. На должности чинов судебных палат могли определяться русские подданные, имеющие высшее юридическое образование. Члены судебных палат назначались из числа лиц, состоявших не менее трех лет в должности не ниже членов и прокуроров окружных судов. Председатели палат - из числа лиц, состоявших не менее трех лет в должности не ниже прокурора или члена судебной палаты, либо председателя или товарища председателя окружного суда. На должность товарища прокурора судебной палаты могли назначаться лица, занимавшиеся судебной практикой не менее шести лет, на должность прокурора палаты - не менее восьми лет. К членам окружных судов также предъявлялись достаточно высокие требования. В целом вопрос о том, каковы должны быть требования к лицам, претендующим на судебные должности, являлся проблемным, в связи с отсутствием в России необходимого числа профессионалов.
Вопросу о подборе кадров для новых судов было уделено весьма серьезное внимание. В результате длительной организационной работы состав Московской судебной палаты и окружных судов ее округа к моменту открытия новых судов был полностью сформирован опытными служащими Правительствующего Сената, представителями иных органов, в том числе ранее действовавших судов. Членами Московской палаты были назначены следующие лица: исправляющий должность Обер-прокурора 2-го отделения 6-го департамента Правительствующего Сената, действительный статский советник Прейс; председатель Вятской палаты уголовного и гражданского суда, действительный статский советник Поппе; председатель Пермской казенной палаты действительный статский советник Котляревский; председатель Пермской палаты уголовного и гражданского суда, статский советник Ягн; состоящий за обер-прокурорским столом в Правительствующем Сенате, коллежский советник Извольский; Ярославский губернский прокурор, статский советник Вишняков. Товарищем прокурора Московской судебной палаты был назначен Харьковский губернский прокурор, статский советник Шахматов [4].
В дальнейшем судебная реформа последовательно проводилась на различных территориях Российской империи. К концу XIX-началу XX вв. по всей России действовали новые суды, было создано четырнадцать судебных округов во главе с судебными палатами. В результате создания новых судов возникала необходимость формирования их штатов грамотными профессионалами, отвечающими требованиям закона. Исходя из этого, власть перемещала опытных членов судебных палат, созданных на заре судебной реформы, во вновь создаваемые суды. К примеру, при проведении в конце XX в. судебной реформы в Сибири в новые суды были назначены до половины судей, приобретших опыт на службе в судах Европейской России [5].
В целом в ходе реализации судебной реформы в России в Московской судебной палате, также как в других судах, зачастую возникала необходимость перемещения членов судов и должностных лиц прокурорского надзора. Власть переводила их из одного суда в другой, руководствуясь мотивами целесообразности, необходимостью укрепить штат того или иного суда. Анализ приказов по ведомству министерства юстиции за период с 1896 по 1917 гг., публиковавшихся в журнале министерства юстиции, показал, что в составе Московской судебной палаты за это время в должностях членов палат и лиц прокурорского надзора работали более ста человек, что, среди прочего, свидетельствует об их частых перемещениях. Для сравнения, в другой, более крупной судебной палате - Санкт-Петербургской - в результате указанных переводов за указанный период в общей сложности работали более двухсот человек. В небольших же палатах число чинов, работавших в рассматриваемый период, естественно, было значительно меньше, однако и там перемещения производились весьма часто. К примеру, за период с 1897 по 1917 гг. в Иркутской судебной палате работали в общей сложности сорок один член суда и девятнадцать представителей прокурорского надзора [6, с. 55-62].
В ряде случаев власть переводила членов Московской палаты для занятия должностей в другие судебные палаты, чем значительно укрепляла их состав. К примеру, прокурор Московской палаты, гоф- мейстер Высочайшего Двора Посников в 1902 г. был назначен старшим председателем Варшавской судебной палаты и к присутствованию в Правительствующем Сенате [7].
Переводы в другие судебные палаты были особенно актуальны, как отмечалось выше, при создании новых судов в рамках проведения судебной реформы в России. К примеру, товарищ прокурора Московской судебной палаты статский советник Шахматов в 1867 г. был назначен прокурором в новую судебную палату – Харьковскую [8].
Иногда члены Московской палаты перемещались для занятия должностей и в окружные суды. К примеру, член Московской судебной палаты, действительный статский советник Отто в 1899 г. был назначен председателем Смоленского окружного суда [9]. Некоторые должностные лица успевали проработать короткий период времени в Московской палате, после чего их переводили в другие суды. К примеру, товарищ прокурора палаты, статский советник Бобрищев-Пушкин работал в этой должности полтора года, после чего был назначен председателем Санкт-Петербургского окружного суда[10]. В ряде случаев представители Московской судебной палаты переводились в окружные суды для укрепления их штатов, а по истечении определенного времени, после налаживания работы суда, назначались на работу обратно в Московскую палату. К примеру, член Московской судебной палаты, действительный статский советник Ранг в 1897 г. был назначен председателем Нижегородского окружного суда, а затем в 1906 г. вернулся обратно в палату и стал председателем одного из ее департаментов[11].
Следует отметить, что Московская судебная палата, также как и Санкт-Петербургская, была «кузницей кадров» для Правительствующего Сената. Наиболее опытные, грамотные служащие палаты переводились в этот высший судебный орган страны. Всего за период 1896-1917 гг. более десяти чинов Московской и Санкт-Петербургской палат были назначены на службу в Сенат. К примеру, товарищ прокурора Московской судебной палаты, действительный статский советник Медиш в 1897 г. был назначен товарищем Обер-Прокурора уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената[12]. В единичных случаях имели место и переводы служащих Московской палаты в министерство юстиции. К примеру, один из членов Московской судебной палаты, действительный статский советник Носенко, в 1896 г. был назначен на должность старшего юрисконсульта консультации при Министерстве Юстиции, учрежденной согласно прошению [13]. Другой представитель Московской судебной палаты – тайный советник фон Клуген – был назначен начальником главного тюремного управления [14].
При переводе чинов Московской палаты в другие суды открывались вакансии и требовалось как можно быстрее назначить новых лиц на эти места. В этих условиях разработка четкого порядка замещения судебных должностей являлась весьма актуальной. При проведении судебной реформы высказывались предложения о том, чтобы министр юстиции руководствовался мнением судебных палат при назначении лиц в состав их членов, а также мнением кассационного суда. Кроме того, предлагалось, чтобы на каждую должность члена палаты представлялось бы по три кандидата и в заседаниях, на которых они будут избираться, участвовали бы представители общества, старшины адвокатов и прокуроры – все с правом голоса. При такой системе судебное сословие приобрело бы большее значение, а министр юстиции был бы облегчен в выборе лиц на судебные должности. Законодатель в статье 213 «Учреждения Судебных установлений» закрепил правило о том, что кандидатов на открывшиеся судебные должности избирали и рекомендовали сами судебные места путем проведения общего собрания. В соответствии со статьями 214-215 «Учреждения» представления судебных палат о соответствующих кандидатах поступали к министру юстиции через старшего председателя судебной палаты. Министр представлял Императору кандидатов, рекомендованных соответствующей судебной палатой, а также других кандидатов, удовлетворяющих требованиям закона.
Таким образом, в соответствии с законом, министр юстиции имел право представлять кандидатов для назначения на должности членов судебной палаты как из числа лиц, рекомендованных данной палатой, так и не из их числа. Такое правило было установлено с целью недопущения длительного незаме-щения вакансий на должности членов судебных палат. Однако не всем такое положение казалось приемлемым. Так, высказывалось мнение, что не следовало бы назначать на должности членов судебных палат лиц, не рекомендованных соответствующей палатой, поскольку министр юстиции не в состоянии знать досконально всех судебных деятелей. Данное мнение представляется нам обоснованным. Проблемы назначения судей на должности обсуждались и Высочайше Учрежденной Комиссией по пересмотру законоположений по судебной части. Как обоснованно отмечали авторы «Объяснительных записок к проекту новой редакции Учреждения судебных установлений», правильная постановка судебной службы требовала от ее деятелей незаурядных качеств: высокого образовательного ценза, чувства беспристрастия и законности. С учетом этого задача поиска лиц для назначения на должности членов судебных палат была трудной в силу высокого положения в судебной иерархии данного суда. Комиссия предлагала выработать такой порядок замещения судебных должностей, который обеспечивал бы права судеб- ных деятелей на дальнейшее служебное движение, а также простор для личных способностей. Большинство членов Комиссии высказалось за предложение, которое состояло в том, чтобы в России, подобно французской системе, составлялись списки всех кандидатов на замещение должностей по судебному ведомству. Составление этих списков предполагалось возложить на специальную комиссию. При введении таких списков в министерстве юстиции и во всех судебных палатах в каждый момент времени находился бы точный список способных и достойных кандидатов на различные судебные должности. Помимо этого, комиссия признала необходимым и сохранение существовавшего на тот момент порядка назначения на должности судей, поскольку мог появиться какой-нибудь достойный кандидат. Однако материалы комиссии так и не вылились в какой-либо законодательный акт. Законодатель оставил прежним порядок замещения должностей членов судебных палат, что обусловливалось, на наш взгляд, необходимостью для власти самостоятельно определять лиц, назначаемых в судебные палаты, влиять на деятельность которых было весьма важно для самодержавия.
При открытии вакансий в Московской судебной палате судебные деятели, зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны при работе в иных судебных палатах и окружных судах, нередко переводились на службу в данный суд, что, несомненно, представляло собой повышение, было весьма престижно и ответственно. За период с 1896 по 1917 гг. из окружных судов в Московскую палату на должности членов палаты и чинов прокурорского надзора были переведены около пятидесяти человек. В другую значимую палату – Санкт-Петербургскую – были переведены около девяноста человек. Большая часть лиц, назначенных на службу в Московскую палату, оставалась работать в данном суде. Другие, отработав в палате некоторое время, снова перемещались в другие суды.
Открытие вакансий и необходимость назначения новых членов в Московскую палату, несомненно, обусловливались и объективными факторами: смертью чинов палаты или их увольнением от должности. За период 1896-1917 гг. умерли или уволились по собственному желанию около двадцати членов палаты и должностных лиц прокуратуры. В более крупной судебной палате – Санкт-Петербургской – за рассматриваемый период умерли или были уволены по собственному желанию в связи с состоянием здоровья в общей сложности более пятидесяти человек.
В ряде случаев Московская судебная палата, роль которой в реализации политики самодержавия, несомненно, была очень высока, усиливалась кадрами из Правительствующего Сената. За период с 1896 по 1917 гг. из Сената в данную палату были переведены четыре человека, в Санкт-Петербургскую палату из Сената были перемещены около десяти человек.
Несмотря на активное использование властью механизма перемещения членов судов, некоторые из них работали в Московской палате весьма долго – около десяти лет и более. Такие профессионалы составляли основу палаты, обучали новых членов суда. К ним относились, к примеру: статские советники Демонси, Горнштейн, Ананьевский, коллежский советник Регекампф и другие.
В целом в результате частых перемещений чинов Московской палаты затруднялась ее работа, несколько снижалась эффективность деятельности, поскольку новым судьям требовалось время, чтобы освоиться с условиями работы в столь важном учреждении. Однако такие переводы были обусловлены объективной необходимостью замещения и укрепления штата самой палаты, поощрения лиц, долго и профессионально работавших на ниве правосудия в пореформенных судах, повышения качества работы других судов. Наличие же судей, работавших в Московской палате длительное время, обеспечивало преемственность кадров, давая им возможность быстро и правильно рассматривать дела. Думается, современному законодателю следует учитывать накопленный положительный исторический опыт, применявшийся в пореформенной царской России, он может быть применен с учетом современных реалий.