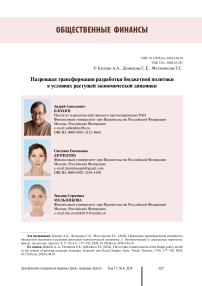Назревшая трансформация разработки бюджетной политики в условиях растущей экономической динамики
Автор: Блохин Андрей Алексеевич, Демидова Светлана Евгеньевна, Мельникова Татьяна Сергеевна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Общественные финансы
Статья в выпуске: 4 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Изменения, происходящие в российской экономике под влиянием структурных сдвигов и институциональных трансформаций, вызванных внешними шоками, определяют необходимость поиска баланса бюджетного планирования и экономического прогнозирования с учетом выявленных различий в сценарных подходах, отклонений в исполнении федерального бюджета относительно плановых назначений, слабой связи между расходами бюджетов и последующей социально-экономической динамикой. Обосновывается, что сильный экономический рост связан с высвобождением российской экономики из-под доминирования зарубежного бизнеса на внутренних рынках. Теоретическая новизна положений о потенциале и направлениях развития благодаря высвобождению из-под доминирования западного бизнеса позволяет увидеть растущие практические проблемы несоответствия консервативной бюджетной политики вызовам экономического развития, включая разработку для нее сценарных условий среднесрочного прогноза. Неготовность бюджетной сферы к высокому экономическому росту может стать тормозом для экономического роста и институциональных трансформаций. Выделены направления расширения фискального пространства в связи с процессами адаптации российской экономики к внешним шокам: различия между вариантами сценарных условий; между принятыми в проекте федерального бюджета параметрами ВВП на первый финансовый год и отчетными значениями этого показателя по итогам года, опережающий рост ВВП по сравнению с официальными прогнозами; структурно-трансформационные и институциональные изменения, происходящие в российской экономике. Для повышения качества сценарного прогнозирования, лежащего в основе формирования федерального бюджета, необходимо включить в сценарные условия, разрабатываемые Минэкономразвития России, наряду с консервативным и базовым амбициозный, целевой и кризисный сценарии. Уточнение сценарных условий должно проводиться на основе оценки экономических последствий от реализации мер бюджетной политики. Состав показателей сценарных условий требует расширения. Помимо текущих корректировок бюджетного процесса следует начинать прорабатывать более глубокие реформы, соответствующие высокому экономическому росту и серьезным структурным сдвигам в экономике.
Бюджетная политика, фискальное пространство, экономические прогнозы, экономический рост, расходы бюджета
Короткий адрес: https://sciup.org/147244551
IDR: 147244551 | УДК: 336.1 | DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.10
Текст научной статьи Назревшая трансформация разработки бюджетной политики в условиях растущей экономической динамики
В последние годы динамизм российской экономики повышается – размах и негативных, и позитивных процессов возрос по сравнению с предыдущими 10–15 годами. Это связано как с внешними, так и с внутренними факторами, многократно обсуждавшимися (Глазьев, 2022; Эскиндаров и др., 2022; Соколов 2023; Широв и др., 2024). Важно, что подобная динамика имеет долгосрочный характер и, вероятно, будет усиливаться, сопровождаясь структурными и институциональными трансформациями рынков и отраслей. Изменения уже происходят в системе государственного регулирования, во взаимодействии государства с крупным бизнесом, в рыночной архитекту- ре крупного и среднего бизнеса. На этом фоне «оазисом стабильности» остается все еще очень консервативная бюджетная политика.
Бюджетная сфера дольше других сохраняла свою модель, созданную примерно 20 лет назад на основе перехода к концепции «New Public Management», главной идеей которой было управление по результату. В российской практике реформирования системы общественных финансов эта модель включает трехлетний бюджет, опирающийся на качественные средне-и долгосрочные прогнозы, обеспечивающие устойчивость бюджетной системы, надлежащее управление рисками и накопление адекватных суверенных резервов (Солянникова, 2022), а также одновременные и согласованные между собой реформы межбюджетных отношений, системы контроля, политики госзакупок, предоставления госуслуг, открытости и прозрачности финансов. Тем не менее программноцелевая и даже проектная привязка расходов к целям государственной политики декларируется, но пока не превращает бюджет в «бюджет развития». Его роль, с одной стороны, сглаживать последствия шоковых изменений, с другой стороны, обеспечивать на долгосрочном горизонте социально-экономический прогресс и технологический суверенитет.
В результате внешних шоков 2014–2015, 2020–2021 гг. и 2022 года в России начали набирать скорость структурные количественные изменения и качественные институциональные трансформации. Наиболее сильное влияние оказали шоки 2022 года, связанные с санкциями в отношении субъектов российской экономики, с уходом с российского рынка доминировавших на нем зарубежных компаний, серьезными ограничениями движения капитала. Основными направлениями проявлений этих тенденций можно считать следующие:
– российский бизнес занимает освободившиеся рынки и производит импортировавшиеся товары, частично локализуя цепочки создания их стоимости;
– международная кооперация перестраивается от недружественных стран к дружественным с последующей локализацией производства;
– спрос на инвестиции и их объем растет, однако горизонт у них пока короткий, увеличивается объем строительных работ и продукции смежных отраслей;
– консолидация крупного бизнеса в отраслях, где до этого доминировал российский бизнес, в 2022–2024 гг. усиливается, диверсификация и переработка в них повышаются, а активность смещается на аффилированные и зависимые компании – бизнес структурно перестраивается;
– рынки и лидеры на них в отраслях, где доминировал зарубежный бизнес (машиностроение, легкая промышленность), быстро трансформируются, активизируются компании «второго слоя» – российские и дружественных стран;
– активность глобальных российских компаний ТЭК, металлургии и ряда других смещается на внутренний рынок и в дружественные страны;
– российский бизнес и капитал начинают возвращаться в Россию из-за ограничений в движении капиталов, рисков конфискации активов за рубежом, борьбы с офшорами, отказа от соглашений об избежании двойного налогообложения;
– спекулятивное движение зарубежного финансового капитала на внутренних финансовых рынках приостановлено либо затруднено;
– отток капитала из России ускорился из-за вывода активов, в том числе финансовых, принадлежавших западным «игрокам», но значительная их часть «увязла» на счетах типа «С», возможности дальнейшего вывода ограничиваются и его издержки для зарубежных владельцев растут;
– активизация предприятий ВПК дает импульс смежным рынкам;
– спрос на локальных рынках, в том числе на продукцию сферы малого и среднего предпринимательства в регионах, растет из-за широкой господдержки населения и бизнеса.
Большинство таких тенденций ведет к заметным структурным сдвигам на российских финансовых рынках, рынках товаров и услуг. Меняющиеся условия хозяйственной деятельности и институциональные трансформации привели как к набирающему силу экономическому росту (в 2023 году прирост ВВП, по данным Росстата, составил 3,6%)1, так и нарастанию оптимизма в прогнозных оценках. На протяжении 2022–2023 гг. фактические показатели экономической динамики существенно опережали прогнозы.
Диссонанс между консервативной бюджетной политикой и взрывной экономической динамикой вряд ли может просуществовать долго. Если преобразования в экономике будут идти прежними темпами, следует ожидать серьезной перестройки бюджетной политики.
Цель исследования – определить первоочередные меры для превращения бюджетной политики уже на этапе ее проектирования из инструмента сглаживания рисков в гибкий инструмент долгосрочного развития в динамично меняющейся экономической ситуации. Достижение данной цели опирается на решение задач, связанных с практической реализацией положений концепций экономического доминирования и фискального пространства.
Литературный обзор
Описание внешних и внутренних условий экономической политики, а также более широкий перечень направлений ее реализации сформулирован, в частности, в работе коллектива авторов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Широв и др., 2024), рассмотревших ограничения инерционного сценария и возможности вариантных подходов.
Вопрос о нарастании оптимизма в прогнозных оценках поднимается в работах М. Узякова. Автор последовательно оценивает темпы прироста ВВП как более высокие относительно официальных прогнозов. Показано, что темпы могут составить в среднесрочной перспективе 4–6% ежегодно2. Похожие оценки представлены в работе Т. Гуровой, П. Скоробогатова3. По расчетам М. Узякова, оценка роста ВВП в 2023 году в ходе четырех уточнений Росстатом итогов года может повыситься и достигнуть величины 5,1%4. Оценки подтверждаются фактическими данными: по итогам января – мая 2024 г. рост ВВП составил +5,0%5.
Теория экономического доминирования, механизмы доминирования и соответствующе- го выведения из экономики доходов более подробно описаны в работах А.А. Блохина (Блохин, 2019; Блохин, 2023а; Блохин, 2023b). В них рассматривается «плата за доминирование», которая относится к институциональной ренте, получаемой благодаря лучшим институциональным условиям у доминирующего бизнеса. Такие оценки согласуются с приведенными М. Узяковым оценками о более высоких темпах прироста ВВП.
Проблемам реформирования системы общественных финансов посвящено множество работ. В частности, С.П. Солянникова отмечает необходимость качественных средне- и долгосрочных прогнозов, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы, надлежащее управление рисками и накопление адекватных суверенных резервов (Солянникова, 2022). Д.А. Сударев рассматривает политические причины отклонения фактических показателей доходов бюджета от планируемых; для доходов федерального бюджета за период с 2000 по 2022 год характерны значительные отклонения фактического значения от запланированного на уровне 7–8% (Сударев, 2023), что сопоставимо с расходами на отдельные отрасли.
Современные исследования бюджетной политики в периоды кризисов выделяют концепцию «фискального пространства» как инструмент реагирования на вызовы и угрозы (Игонина, 2015; Aizenman et al., 2019; Kose et al., 2022). В работах (Romer, Romer, 2018; Romer, Romer, 2019) фискальное пространство определяется как пространство, в котором политики должны «маневрировать» или предпринимать действия, направленные как на финансовое спасение и финансовую рекапитализацию, так и на традиционные бюджетные стимулы. Выбор инструментов бюджетной политики с применением концептуального подхода фискального пространства особенно действенен в периоды сложных трансформаций и структурных сдвигов в экономике (Игонина, 2015; Демидова, 2024, Auerbach, Gorodnichenko, 2017).
Доказано, что бюджетная экспансия, выражающаяся в росте государственных расходов при системно несбалансированных бюджетах, сдерживает макроэкономическую и финансовую стабилизацию и возобновление экономического роста после экономических спадов
(Salamaliki, Venetis, 2024), в том числе за счет повышения расходов на обслуживание государственного долга (Махотаева и др., 2024). Политика бюджетной консолидации, напротив, способствует восстановлению баланса устойчивости. При этом планы жесткой экономии, направленные на сокращение государственных расходов, менее затратны и имеют более быстрый эффект, чем использование налоговых инструментов, способных вызывать углубление рецессии, что также подтверждается исследованиями (Alesina et al., 2019).
Рассмотрение фискального пространства как фактора, лежащего в основе цикличности бюджетной политики, указывает на важность его расширения в благоприятные периоды, что позволит проводить контрциклическую политику на ниспадающем тренде (Ahmad et al., 2021).
Нужно подчеркнуть, что в России после 2022 года сложилась ситуация, требующая системных изменений в бюджетной политике.
Таким образом, подходы, опирающиеся на теорию экономического доминирования, позволяют четко выделить «нерв» происходящих в экономике в настоящее время трансформаций, связав приращение фискального пространства с институциональными факторами влияния крупного бизнеса на экономику.
Методология и методы
На первом этапе исследования проведен анализ сложившихся экономических условий исходя из положений концепций экономического роста и доминирования крупного бизнеса, выделены парадоксальные особенности российской экономики, сформулировано положение о «высвобожденном» росте экономики.
На втором этапе проанализированы ограничения экономического развития, вызванные реализацией консервативной бюджетной политики, на основе показателей параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Статистические данные отражают разрывы между экономической динамикой и бюджетной политикой.
На третьем этапе проведен анализ сложившейся практики экономического прогнозирования и учета прогнозных данных в бюджетном процессе. Индикатором выступает процент отклонений фактических значений показателей от плановых.
Результаты
Направления и причины динамики российской экономики в контексте проблемы доминирования крупного бизнеса
Структурные и институциональные изменения российской экономики связаны, в том числе, с высвобождением из-под доминирования крупного глобального бизнеса. Такое доминирование позволяло последнему занимать лидирующие позиции на российских отраслевых и региональных рынках, получать привилегированный доступ к качественным ресурсам, диктовать условия использования и обслуживания импортированного оборудования и правила «встраивания» отечественного бизнеса в зарубежные производственностоимостные цепочки. Это в итоге приводило к переливу доходов и активов в пользу доминирующих компаний и позволяло выводить их из России. Параллельно создавались ценовые, правовые и прочие условия, ограничивающие развитие производства товаров внутри страны. Приобрести нужные товары по импорту оказывалось дешевле – спрос переключался на западные рынки. Такая «конкуренция» закрывала для российского бизнеса возможности освоения новых рыночных ниш, особенно технологических. Генерируемые инновации «скупались» зарубежными корпорациями зачастую вместе с разработчиками, соответственно, большую часть доходов корпорации получали за рубежом. Эти и многие другие способы доминирования западных компаний в российской экономике снижали ее конкурентоспособность.
В последние два года характер оттока капитала из российской экономики изменился – выводятся не столько доходы от использования активов, сколько некоторый (сниженный) эквивалент стоимости самих активов, остающихся в России. Соответственно, со сменой владельцев активов новые доходы от них начинают работать в российской экономике, поэтому сопоставлять количественные пока затели оттока капитала до и после 2022 года не совсем верно6 – это качественно отличающиеся характеристики.
В целом масштабы описанного доминирования и той цены, которую «платила» за него российская экономика, можно подтвердить рядом примеров. Их внешняя парадоксальность может быть объяснена именно в рамках теории экономического доминирования.
-
1. Слабый рост отечественной экономики и ее низкая эффективность на фоне высоких «обременений» в виде дорогого финансирования и иных элементов трансакционных издержек (связанных, например, с защитой собственности, информационными, консалтинговыми и прочими услугами). Эти обременения накапливались по цепочке поставок и ложились на издержки компаний и расходы государства, сковывая их развитие. Практически невозможно представить, что современная экономика Германии, Японии, США или иная развитая экономика при таком же уровне нагрузки могли бы иметь положительную рентабельность и ненулевые темпы экономического роста. Получается, что при «нормальном» уровне таких обременений российская экономика могла бы расти гораздо более высокими темпами.
-
2. Сравнительно быстрый рост и объема, и влияния госсектора в российской экономике. Традиционно считается, что экономическую динамику лучше обеспечивает частный бизнес. Однако в России за последние 10–15 лет именно госсектор оказался более успешным. Объяснение этому может быть дано именно с помощью теории экономического доминирования. Государственный сектор в меньшей степени, чем частный, встроен в систему глобальных западных корпораций и, соответственно, «отдает» им меньшую часть своего дохода в виде институциональной ренты.
-
3. Реакция российской экономики на санкции в 2022 году столь же парадоксальна. Главные проблемы связаны с разрывом цепочек поставок, экспроприацией зарубежной российской собственности, а не с отделением российской экономики от мировой финансовой
-
4. Проблемы с государственными заимствованиями при низком уровне государственного долга, который в настоящее время находится на минимальном уровне относительно развитых и развивающихся стран, – 15% ВВП. Ниже он только в Республике Конго (14,6% ВВП) и Туркменистане (5,2%)7. Однако возможности использования данного инструмента ограничены ростом бюджетных расходов на его обслуживание: в 2019 году – 3,6%, в 2024 году – 6,5%, прогноз на 2026 год – около 9,7%8.
системы. Наоборот, последнее частично перекрывает каналы вывода из нее институциональной ренты, создает возможность для внутреннего финансирования, а также «отсекает» российскую экономику от рисков обвала пузырей на финансовых рынках, то есть от предстоящего глобального финансового кризиса.
Ряд похожих примеров можно продолжить. Из них следует, что разница между фактическим экономическим ростом при высоком уровне обременения и возможным ростом при его нормальном уровне – один из ключевых ресурсов роста и качественных изменений российской экономики. Подчеркнем, что избавление от необходимости платить «дань» крупным глобальным корпорациям – это лишь ресурс для роста, которым нужно эффективно воспользоваться.
Если возможно было бы оценить рост российской экономики с нормальными параметрами финансирования и трансакционных издержек (как минимум – вычесть издержки компаний на обслуживание дорогого финансирования по всей цепочке создания стоимости с увеличением инвестиций и производственных расходов на полученную разницу, то, вероятно, можно было бы получить несколько процентов дополнительного роста экономики ежегодно (корректно провести сравнение этих показателей очень трудно, поэтому здесь мы оставляем такой пример лишь в качестве рассуждения). Разница между показателями гипотетической и фактической экономической динамики – пла- та за доминирование, или институциональная рента (Блохин, 2023), что косвенно подтверждает возможное повышение темпов прироста ВВП до уровня 4–6% ежегодно9.
Поскольку источник роста российской экономики носит институциональный характер, то и ключевые трансформации, связанные с адаптацией к внешним шокам, также институциональные. Описание такой адаптации с точки зрения теории доминирования позволяет выделить как минимум три уровня целей этого процесса. На первом уровне адаптации стояла и стоит задача сокращения ренты доминирования, отдаваемой западному бизнесу. На втором – необходимо освоить эффективное использование этой «не отданной» ренты, что требует и новых технологий, и крупных инвестиций, и новых подходов к консолидации бизнеса, и перестройки механизмов государственной поддержки. На третьем уровне адаптации могут ставиться цели формирования «встречного» доминирования на каких-то глобальных рынках и получения на них институциональной ренты в пользу крупных российских компаний. Еще 10–20 лет назад последний из этих уровней казался невозможным, но скорость разворачивания кризиса глобальной экономики делает его все более реалистичным уже в ближайшем будущем. В этом смысле российская экономика оказывается гораздо более жизнеспособной не в конкуренции с растущей, как прежде, западной экономикой, а в конкуренции с «падающей» западной экономикой, вступающей в кризис, похожий на российский кризис 90-х гг. Поэтому готовиться к стратегии «встречного доминирования» нужно уже сейчас. В настоящее время российская экономика и российский бизнес стоят на переходе от первого ко второму уровню, несущем дополнительную неопределённость и волатильность прогнозов. Переход к третьему уровню адаптации еще более их повысит.
Опросы руководителей предприятий показывают, что компании, «ведя антикризисную деятельность, … во второй половине 2023 г. продолжали сокращать пассивные методы адаптации (сокращение инвестиций, урезание зарплат, увольнения сотрудников и т. п.) и, наоборот, наращивали применение активных методов – поиск новых поставщиков и рынков сбыта, модернизацию производства и т. д.» (Кувалин и др. 2024).
Существенное улучшение условий для российской экономики происходит и во внешнеэкономической сфере. Расширяются кооперативные связи российского бизнеса с дружественными странами, стабилизировались отношения с компаниями из недружественных стран. Россия участвует в реализации новых крупных проектов. Так, недавно Bloomberg заявил, что Россия выстраивает два транспортных коридора, которые могут сделать ее «сердцем» международной торговли. Первый – Северный морской путь, второй – транспортный коридор «Север – Юг», включающий железную дорогу через Иран12. Отмечается, что для транзита по ним требуется на 30–50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. Кроме того, оба маршрута безопасны в отличие от проходящего через Красное море.
Направления и причины динамики российской экономики в контексте реализации консервативной бюджетной политики
В условиях широкого доминирования западного бизнеса в российской экономике бюджетная политика играла пассивную, стабилизирующую роль в социальной политике, сфере безопасности и экономике. В этом случае бюджет «гасил» негативные последствия избыточного вывода из экономики институциональной ренты. По мере сокращения такого доминирования бюджетная политика может и должна стать инструментом, ориентированным на цели социально-экономического развития, а сами цели могут при этом быть более амбициозными.
Растущий «разрыв» между динамизмом в экономике и отставанием от него бюджетной политики может быть проиллюстрирован (табл. 1–3) с помощью используемых при разработке проектов федерального и региональных бюджетов «Основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год и на плановый период» (далее – СУ или СУ на соответствующие годы)13.
Согласно таблице 1, значение отчетного (фактического) уровня ВВП за данный год устойчиво превышает его прогноз на 1 год для того же года базового предшествующего сценария. Такое превышение составляет от 6 до 18% и в целом повышается. Диапазон превышения отчетного значения ВВП над оценкой для данного года столь же высок, хотя и сдвинут в отрицательные значения. Он составляет от -7 до 6%. Отметим, что временной лаг в определении показателей во втором случае на год меньше, но его точность не увеличивается.
Таблица 1. ВВП: отчет, оценка и прогноз на первый, второй и третий год планового периода по базовому сценарию СУ, трлн руб.
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
СУ на 2020 г. |
103,9 |
109,1 |
114,4 |
122,2 |
130,8 |
|||||
|
СУ на 2021 г. |
110,0 |
105,9 |
113,7 |
121,9 |
130,7 |
|||||
|
СУ на 2022 г. |
107,0 |
119,4 |
126,7 |
135,6 |
145,6 |
|||||
|
СУ на 2023 г. |
131,0 |
140,7 |
147,8 |
158,1 |
167,8 |
|||||
|
СУ на 2024 г. |
153,4 |
157,8 |
167,8 |
178,4 |
190,2 |
|||||
|
СУ на 2025 г. |
172,1 |
191,4 |
206,9 |
221,6 |
237,4 |
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных в разделе «Прогнозы социально-экономического развития» официального сайта Минэкономразвития России. URL:
Данные таблицы 2 демонстрируют еще более драматичный разброс показателей отчета, оценки и прогноза по инвестициям в основной капитал в базовом сценарии СУ, как и по ВВП. Показатели прогноза на 2-й и 3-й год планового периода тоже отклоняются от отчета и оценки на соответствующий год, и что интересно – разнонаправленно. То есть от года к году меня- ется не только уровень прогнозов, но и концепция последующей динамики представленных в СУ показателей.
Похожая, хотя и несколько отличающаяся ситуация – с региональными бюджетами. В таблице 3 приведены данные об отношении отчета за данный год к прогнозу 1 года планового периода на тот же год базового сценария предше-
Таблица 2. Прирост инвестиций в основной капитал: отчет, оценка и прогноз на первый, второй и третий год планового периода по базовому сценарию СУ, %
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
СУ на 2020 г. |
4,30 |
3,10 |
7,00 |
6,30 |
5,80 |
|||||
|
СУ на 2021 г. |
1,70 |
-10,40 |
5,50 |
5,60 |
5,70 |
|||||
|
СУ на 2022 г. |
-1,40 |
3,30 |
5,30 |
5,10 |
5,30 |
|||||
|
СУ на 2023 г. |
7,70 |
-19,40 |
0,30 |
8,90 |
5,30 |
|||||
|
СУ на 2024 г. |
4,60 |
0,50 |
3,20 |
3,70 |
4,50 |
|||||
|
СУ на 2025 г. |
9,80 |
2,30 |
2,70 |
3,00 |
3,20 |
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных в разделе «Прогнозы социально-экономического развития» официального сайта Минэкономразвития России. URL:
Таблица 3. Отношение отчетных значений к оценке и прогнозу ВВП (для Российской Федерации в целом) и ВРП (для субъектов Федерации) в соответствующие годы на федеральном и региональном уровнях, %
2018 2019 2020 2021 2022 А* Б** А* Б** А* Б** А* Б** А* Б** Российская Федерация 106 106 105,5 101,3 118,8 110 107 93 117 109 Республика Тыва 111 109 117 109 122 109 125 105 123 101 Камчатский край 111 93 118 111 127 113 115 100 131 105 Томская область 88 62 104 108 93 108 71 122 115 103 Республика Башкортостан 86 97 105 114 103 101 115 102 116 96 Оренбургская область 87 90 112 107 115 108 116 100 141 116 Республика Хакасия 109 101 117 108 117 104 111 101 130 99 Иркутская область 97 110 106 104 104 107 122 104 111 108 Амурская область 83 81 94 107 114 131 106 104 143 109 Республика Татарстан 106 109 110 101 102 108 125 115 126 105 Тюменская область 85 104 111 105 100 109 118 113 116 107 * Отношение отчета за данный год к прогнозу 1 года планового периода на тот же год базового сценария СУ. * * Отношение отчета за данный год к оценке на тот же год базового сценария СУ. Источник: составлено авторами на основе материалов Единого портала бюджетной системы Российской Федерации. Электронный бюджет. URL: ; официального сайта Минэкономразвития России. URL: ; официальных сайтов министерств экономического развития и департаментов экономики субъектов Российской Федерации. URL: , , , , , , ,, (дата обращения 07.07.2024).
ствующих СУ и отношении отчета за данный год к оценке на тот же год базового сценария СУ по десяти субъектам Российской Федерации (выбраны по два региона для каждого из пяти уровней бюджетной обеспеченности, начиная с наименее обеспеченных регионов – Республика Тыва и Камчатский край, и заканчивая наиболее обеспеченными – Республика Татарстан и Тюменская область). Данные о бюджетной обеспеченности субъектов взяты на официальном портале «Единый портал бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет»14. Данные по ВРП регионов рассчитывались на основе Прогнозов социально-экономического развития регионов на предстоящий год и плановые периоды, разработанных министерствами экономического развития и департаментами экономики выделенных субъектов Российской Федерации и представленных на их официальных сайтах15.
Как следует из представленных данных, диапазон отклонения фактических значений ВРП от оценки и прогноза на 1 год планового периода в целом даже выше, чем на федеральном уровне. Конечно, более четкие выводы следует строить по полной выборке регионов и динамике соответствующих показателей за более длительный период, но и приведенные данные вполне убедительно иллюстрируют неточность бюджетных прогнозов. Значения в целом согласуются с результатами, полученными Д.А. Сударевым, об отклонении фактических и плановых объемов доходов федерального бюджета на 7–8% на двадцатилетнем горизонте (Сударев, 2023).
Таким образом, можно утверждать, что наступает время для серьезных изменений бюджетной политики, поскольку, с одной стороны, изменения в экономике будут носить все более динамичный и глубокий характер, затрагивая ее отраслевую и региональную структуру, пропорции между крупным, средним и малым бизнесом, соотношение между налоговыми базами установленных в России налогов, с другой стороны, сами структурные и качественные изменения в экономике должны будут опираться на своевременно реализуемые меры бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной и других политик.
В действующей модели предотвращение рисков важнее структурных изменений и стимулирования качественных трансформаций в экономике. «Генетическая память» в обществе о кризисах и секвестрах оправдана, но, возможно, уже пора переходить к более зрелой, гибкой и активной модели бюджетной политики.
Столь же драматичный запрос на реформы наблюдался в начале 2000-х гг., когда экономический рост и повышение бюджетного профицита оказались заметно больше ожиданий руководителей и специалистов органов власти и экспертов. В результате это привело к кодификации бюджетного законодательства, началу глубоких реформ в системе общественных финансов. К вызовам современного этапа развития российской экономики нужно готовиться заблаговременно.
Учет прогнозных данных в бюджетном процессе и возможности расширения фискального пространства
Понимание необходимости изменений финансовой политики должно лечь в основу разработки ее реформ. При этом даже в рамках действующего порядка можно рекомендовать ряд решений, заметно сглаживающих негативные последствия рассогласованности экономической и финансовой политик и расширяющих фискальное пространство.
В соответствии со сложившейся практикой, основанной на положениях бюджетного законодательства, порядок разработки федерального бюджета построен в общих чертах следующим образом.
-
1. Минэкономразвития России ежегодно вносит в Правительство Российской Федерации проект документа «Основные параметры сценарных условий прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на год и на плановый период» на соответствующий период времени. В нем определены, во-первых, параметры внешних условий и курс рубля к основным валютам, цены на нефть и другие сырьевые товары российского экспорта. Они задают характеристики нефтегазовых доходов бюджета, а также объемы таможенных поступлений; во-вторых, параметры ВВП, инвестиций в основной капитал, экспорт, импорт, уровень инфляции и другие показатели внутренних условий развития экономики России. Их значения устанавливаются в базовом и консервативном сценариях.
-
2. Для целей определения бюджетной политики Минфин России, а затем Правительство Российской Федерации обычно выбирают базовый сценарий и лишь в кризисные годы – консервативный.
-
3. На основе перечисленных внешних и внутренних условий по выбранному сценарию, а также с учетом параметров управления внешним и внутренним государственным долгом, возможных решений по приватизации объектов государственной собственности
-
4. Эти параметры детализируются далее, в том числе по основным мероприятиям государственных программ Российской Федерации.
-
5. После утверждения федерального бюджета могут и должны уточняться показатели государственных программ Российской Федерации, в том числе связанные с динамикой экономического развития – ВВП, инвестиции в основной капитал и другие.
Согласно проекту СУ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг., разработанному Минэкономразвития России, базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики. Консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий16. Подчеркнем, наиболее вероятный вариант – это не то же самое, что позволяет достигнуть намеченные цели социально-экономического развития. Консервативный – более осторожный и менее оптимистичный вариант.
и других экономических показателей формируются объемы доходов, расходов и дефицита бюджета.
При таком порядке в весьма слабой степени оценивается влияние расходов на экономические показатели и, следовательно, предстоящие изменения налоговых баз, рынка труда, прироста активов, повышения эффективности их использования, в конечном счете – будущие доходы бюджета. Контур подобных влияний «расходы – экономические показатели – доходы бюджета» оказывается «разомкнутым». Некоторые из этих «обратных связей» могут быть учтены лишь при корректировке СУ к моменту, когда они вносятся вместе с другими документами по федеральному бюджету в Государственную Думу Российской Федерации, а также в процедуре распределения дополнительных доходов.
В предшествующие годы при стабильной экономической динамике без резких структурных и институциональных изменений в российской экономике значимость учета влияния расходов на последующие доходы для бюджетной политики была минимальной, поскольку параметры бюджетных расходов изменялись примерно «синхронно» с экономическими показателями. Среднесрочный прогноз учитывал сложившиеся на рынках и в системе общественных финансов тренды. Однако в периоды существенных трансформаций, какой в настоящее время переживается в России, названные изменения становятся значимыми. Их динамика в значительной мере содержит возросшие неопределенность и риски. Возможность управлять расходами с учетом ожидаемых (благодаря им) доходов может расширить фискальное пространство и повысить эффективность/ результативность бюджетных расходов при сохранении долговой устойчивости и макроэкономической стабильности.
Из-за растущей изменчивости экономической динамики повышаются ошибки прогнозов, поэтому использование прогнозных данных при подготовке бюджета должно быть скорректировано в следующих направлениях.
-
1. Разработка в рамках СУ новых видов сценариев: кризисного (отражающего риски и угрозы новых шоков), целевого (позволяющего добиться достижения национальных целей и приоритетов), амбициозного (создающего основы для установления более высоких целей).
-
2. Введение порядка регулярной корректировки СУ на стадиях разработки, принятия и, главное, исполнения бюджета.
-
3. Расширение состава показателей и анализируемых трендов в сценариях СУ, включая показатели изменения налоговых баз, рынка труда, использования производственных мощностей, развития производственной, транспортной, рыночной и иных инфраструктур, характеристик институциональных реформ, развития человеческого потенциала и технологической базы экономики, экспансии российского бизнеса на внешние рынки.
-
4. Включение в описание сценариев СУ характера и тенденций изменения внешних факторов, продуцирующих риски, угрозы, новые возможности, и условий их реализации. Отражение направлений взаимодействия с крупными глобальными компаниями, формирования новых рынков и оценок последствий взаимодействия с дружественными и недружественными странами.
-
5. Включение в СУ аналитической проработки тенденций, наблюдающихся в российской экономике под влиянием структурных сдвигов и институциональных трансформаций, учитывающих возможный опережающий рост ВВП по сравнению с официальными и экспертными прогнозами. Как показано выше, такие изменения затрагивают не только внутриотраслевые или межрегиональные пропорции. Они могут проявиться в формировании новых секторов либо кластеров из-за локализации цепей создания продукции при импортозамещении; появлении новых центров регионального роста или технологических прорывов; создании внутреннего оборота финансовых ресурсов, обеспечивающих связность платежной системы и функционирование внутреннего финансового рынка, а также по многим другим направлениям.
Выводы и рекомендации
Адаптация российской экономики к внешним шокам проявила сильную зависимость внутренних рынков от внешнего доминирования, освобождение от которого стало значимым фактором экономического роста. Первая волна такой адаптации носила характер спонтанного и даже хаотичного реагирования на разрывы экономических цепочек и ограничения движения капиталов. К настоящему времени она переходит в более глубокую волну институциональных трансформаций рынков на уровне их компаний-лидеров и инфраструктур. Она сопровождается повышением горизонта инвестиционных проектов и созданием новой архитектуры кооперации государства и крупного бизнеса. В долгосрочном плане третьей волной начавшихся процессов может стать выход крупного российского бизнеса на доминирующие позиции на внешних рынках. Последнее может произойти при углублении начавшегося глобального кризиса, однако успех подобной стратегии не гарантирован и будет зависеть от усилий ее участников.
Российская экономика показала, что решение проблемы доминирования крупного зарубежного бизнеса обеспечивает резерв для «высвобожденного» экономического роста. Непосредственная оценка его объема достаточно трудоемка и требует отдельного исследования. Стоят задачи перехода от «спонтанной» и даже «хаотичной» адаптации к внешним шокам на этап выстраивания новой архитектуры взаимодействия государства и крупного бизнеса, выработки новой бюджетной, денежно-кредитной, промышленной и иных политик.
Сильный экономический рост становится фактором кризиса сложившейся модели бюджетной политики. Она довольно консервативна и не готова к предстоящим экономическим изменениям, которые могут сначала разворачиваться как структурные изменения налоговых баз, опережающее развитие отдельных отраслей, рынков, регионов, но в перспективе – привести к заметным вызовам перестройки не только бюджетной политики, но и бюджетной системы. В частности, значимое усиление внутренних факторов ее развития повысит роль региональных бюджетов и потребует качественного изменения межбюджетных отношений.
Оценка расширения фискального пространства при опережающем росте фактических показателей ВВП по сравнению с запланированными грубо может быть получена как произведение количества процентных пунктов такого превышения и величины, обратной к фискальному мультипликатору. Таким образом, примерно каждые два с половиной – три процентных пункта занижения прогнозных значений ВВП дают недооценку прироста расходов бюджета в один процентный пункт. Подобные оценки и их обоснование обладают в современных условиях не только научной новизной, но и высокой практической значимостью. Фактическое опережение доходов по сравнению с запланированным дает возможность повышать расходы на решение текущих задач и даже на «залатывание дыр», а не на более амбициозные цели.
Растущий разрыв в довольно быстрых экономических изменениях и консервативной инерции бюджетной политики требует внимательного отношения и мониторинга возможных рисков. Уже сейчас необходима глубокая проработка предстоящих реформ бюджетной системы. При этом следует внести ряд корректировок в действующую систему бюджетного планирования и прогнозирования для повышения ее гибкости. В условиях, когда федеральный бюджет должен становиться инструментом управления преобразованиями, следует наряду с базовым и консервативным сценариями формировать также целевой сценарий, в наибольшей мере отвечающий задачам достижения приоритетных целей, а также кризисный вариант сценария на случай усиления внешних шоков. Состав показателей СУ и глубина проработки самих сценариев должны быть качественно изменены и отражать структурные и институциональные изменения предстоящего развития экономики с корректировкой на всех стадиях бюджетного процесса.
Кроме того, состав показателей и анализируемых трендов в сценариях СУ должен быть расширен. Если планировать расходы с учетом их будущих экономических последствий, то можно добиться ощутимо больших результатов в достижении приоритетных национальных целей, чем при реализации действующей модели бюджетной политики. В определенной степени подходы к определению таких взаимосвязей реализуются через категорию «производительных» расходов бюджета (Соколов, Матвеев, 2023), однако на практике потребуются более глубокие проработки.
Включение в СУ аналитической проработки тенденций, учитывающих возможный опережающий рост ВВП, позволит не упустить формирование новых секторов, кластеров, центров роста как источников для технологического рывка.
Заниженные или завышенные прогнозные значения лишают органы власти возможности выбрать соответствующий и адекватный вариант стратегии, позволяющий сглаживать размах экономического цикла. Неготовность к изменениям вследствие необъективных прогнозов может оказаться триггером принятия ненадлежащих решений, в том числе в части заимствований, корректировок налоговой политики, политики расходов. Повышение качества сценарного прогнозирования обеспечит появление новых сценариев, отвечающих национальному целеполаганию (целевой сценарий), отражающих готовность к шокам и экономическим кризисам (кризисный сценарий).
Выявление источников неоптимальной бюджетной политики и своевременная корректировка имеют ключевое значение для достижения долгосрочных целей развития. Представленные предложения могут быть использованы в деятельности государственных органов власти при разработке бюджетной политики, совершенствовании сценарного прогнозирования.
Список литературы Назревшая трансформация разработки бюджетной политики в условиях растущей экономической динамики
- Блохин А.А. (2023). Глобальный кризис как кризис экономического доминирования // Проблемы рыночной экономики. № 1. С. 32–47. DOI: 10.33051/2500-2325-2023-1-32-47
- Блохин А.А. (2023). Экономическое доминирование: базовые положения теории и подход к измерению // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. № 1. С. 6–30. DOI: 10.47711/2076-3182-2023-1-6-30
- Блохин А.А. (2019). Институциональная рента в многоуровневой экономике // Проблемы прогнозирования. № 4 (175). С. 16–27.
- Глазьев С.Ю. (2022). Как денежно-кредитная политика угнетает экономический рост в России и Евразийском экономическом союзе // Российский экономический журнал. № 2. С. 4–20. DOI: 10.33983/0130-9757-2022-2-4-20
- Демидова С.Е. (2024). Формирование фискального пространства в условиях экономической нестабильности // Финансовые исследования. Т. 25. № 1 (82). С. 112–126. DOI: 10.54220/finis.1991-0525.2024.82.1.009
- Игонина Л.Л. (2015). О подходах к оценке эффективности бюджетно-налоговой политики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 3. С. 54–58.
- Кувалин Д.Б., Зинченко Ю.В., Лавриненко П.А., Ибрагимов Ш.Ш., Зайцева А.А. (2024). Российские предприятия в конце 2023 года: восстановительный рост на фоне санкций, обострение дефицита рабочей силы и удорожание кредита // Проблемы прогнозирования. № 3 (204). С. 164–181. DOI: 10.47711/0868-6351-204-164-181
- Махотаева М.Ю., Николаев М.А., Демидова С.Е. (2024). Факторы динамики собственных доходов региональных бюджетов // Финансы. № 3. С. 17–24.
- Соколов М.М. (2023). Энергоемкость экономики России и основные факторы, воздействующие на ее уровень и динамику // Экономика промышленности. № 16 (1). С. 34–50.
- Соколов И.А., Матвеев Е.О. (2023). Оценка воздействия бюджетно-налоговой политики на темпы экономического роста // Мир новой экономики. № 17 (4). С. 65–78.
- Солянникова С.П. (2022). Современные трансформации концепций и институциональных основ управления финансами государственного сектора // Финансы. № 9. С. 17–22.
- Сударев Д.А. (2023). Оценка влияния факторов политической природы на ошибки прогнозов доходов федерального бюджета России // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 4. С. 197–216. DOI: https://doi.org/10.52180/2073-6487_2023_4_197_216 URL: https://vestnik-ieran.ru/index.php/component/jdownloads/send/17-2023-n4-articles/124-vart-2023-4-p197-216
- Широв А.А., Белоусов Д.Р., Блохин А.А. [и др.]. (2024). Россия 2035: новое качество национальной экономики // Проблемы прогнозирования. № 2 (203). С. 6–20. DOI: 10.47711/0868-6351-203-6-20
- Эскиндаров М.А., Масленников В.В., Абрамова М.А. [и др.]. (2022). Финансы России в условиях социально-экономических трансформаций. Москва: Прометей. 710 с.
- Ahmad A., McManus R., Ozkan F.G. (2021). Fiscal space and the procyclicality of fiscal policy: The case for making hay while the sun shines. Economic Inquiry, 59(4), 1687–1701. Available at: https://doi.org/10.1111/ecin.13008
- Aizenman J., Jinjarak Y., Nguvenb Hien Thi Kim, Parkc D. (2019). Fiscal space and government-spending and tax-rate cyclicality patterns: A cross-country comparison, 1960–2016. Journal of Macroeconomics. 60, 229–252. Available at: https://web.archive.org/web/20200710045957id_/https://www.nber.org/papers/w25012.pdf
- Alesina A., Favero C., Giavazzi F. (2019). Effects of austerity: expenditure- and tax-based approaches. Journal of Economic Perspectives, 33(2), 141–162.
- Auerbach A.J., Gorodnichenko Y. (2017). Fiscal stimulus and fiscal sustainability. NBER Working Paper. 23789. Available at: https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/23789.html
- Kose M.A., Kurlat S., Ohnsorge F., Sugawara N. (2022). A cross-country database of fiscal space. Journal of International Money and Finance. 128, 102682. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102682
- Romer C.D., Romer D.H. (2019). Fiscal space and the aftermath of financial crises: How it matters and why. Brookings Papers on Economic Activity, 239–313.
- Romer C.D., Romer D.H. (2019). Phillips lecture – why some times are different: Macroeconomic policy and the aftermath of financial crises. Economica, 85(337), 1–40.
- Salamaliki P.K., Venetis I.A. (2024). Fiscal space and policy response to financial crises: Market access and deficit concerns. Open Economies Review, 35, 323–361. DOI: https://doi.org/10.1007/s11079-023-09724-7