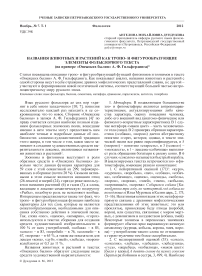Названия животных и растений как тропо- и фигурообразующие элементы фольклорного текста (на примере «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга)
Автор: Дундукова Ангелина Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию тропо- и фигурообразующей функций фитонимов и зоонимов в тексте «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга. Как показывает анализ, названия животных и растений с одной стороны несут в себе отражение древних мифологических представлений славян, а с другой -участвуют в формировании новой поэтической системы, соответствующей большей частью антропоцентричному миру русского эпоса.
Язык фольклора, былина, семантика, метафора, сравнение, параллелизм, антитеза, гипербола
Короткий адрес: https://sciup.org/14750244
IDR: 14750244 | УДК: 398
Текст статьи Названия животных и растений как тропо- и фигурообразующие элементы фольклорного текста (на примере «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга)
Язык русского фольклора до сих пор «хранит в себе много загадочного» [10; 7], позволяя исследователю каждый раз находить в ее сокровищнице что-то новое. Сборник «Онежские былины» в записи А. Ф. Гильфердинга [4]1 по праву считается сегодня наиболее полным изданием фольклорных эпических песен, вошедшие именно в него тексты могут предоставить нам наиболее точные и подробные данные об особенностях словесно-художественной традиции этого жанра, в том числе о том, какое место занимают в создании художественных средств выразительности лексемы, являющиеся названиями животных и растений2.
Зоонимы и фитонимы выступают в роли образных средств в «Онежских былинах» довольно часто: данная функция характерна для 59 слов с этой семантикой из 299, зафиксированных в сборнике (почти 20 %). Самыми активными в этом смысле являются названия птиц (26 лексем) и зверей (24), гораздо реже используются названия растений (6) и гадов (3), а слова, входящие в лексико-семантическую подгруппу «Рыбы», подобную роль не исполняют вообще. Интересным представляется также тот факт, что тропо- и фигурообразующая функции наиболее характерны для тех слов, которые не являются сюжетообразующими, необходимыми для описания собственно действия в эпической песне. Так, слова «пес», «щенок», «комарик», «горох» используются в текстах сборника для создания средств художественной изобразительности в 100 % от всех употреблений, «собака» – в 85, «сокол» – в 83, «воробей» – в 76, «соловей» – в 67, «ворона» – в 65 %, а такие же показатели для лексем «конь», «дуб», «змей», «лебедь», «ворон» колеблются от 0,5 до 11 %.
Названия животных и растений в текстах «Онежских былин» образуют следующие виды средств художественной выразительности:
I. Метафора . В подавляющем большинстве зоо- и фитометафоры являются антропохарактеристиками, актуализирующими либо качества характера, оценку поведения человека, либо его внешний вид (анатомо-физические или физиолого-возрастные характеристики). В 1 случае метафора «маков цвет» – часть человеческого тела (лицо). В 2 примерах образная характеристика («собака», «ворон») дается абстрактному понятию «горе», которое, однако, в тексте эпической песни все равно персонифицируется, в 5 («ворон») – понятию «старость», в 3 («сокол») – «молодость», в 1 – лексема «собачище» выполняет роль обращения богатыря к своему коню. В 6 случаях «соколом» называется быстрый корабль. В анализируемых текстах встречаются зоо- и фитометафоры, имеющие разную коннотацию:
-
1. С пейоративной оценкой (171)3: «куро», «куренок», «воробык», «пес», «собака», «собачка», «собачище», «щенок», «щенядь», «кобель», «ворон», «ворона», «змей», «змея», «кобыла», «коровища/о», «корова»: Собирался собака [Калин] ровно три году, во четвертый год собака во поход пошел (Илья Муромец и Калин царь, 2, 175, 15–16). Негативная коннотация этих метафор напрямую связана с древними мифологическими представлениями об этих животных: это или проклятые, приносящие беду птицы (воробей, ворон), или существа, связанные с миром мертвых, с демонизмом и колдовством (собака, змей). Некоторые зоонимы в переносных значениях формируют обычно ярко выраженную женскую символику (курица, кобыла, корова, змея, ворона) – употребление такого слова по отношению к герою-мужчине тем более оскорбительно.
-
2. С мелиоративной оценкой (35): «сокол», «соколик», «лебедь», «лебедка», «лебедушка», «гусь», «жеребец», «кобылица», «маков цвет»: [было у вдовы] А девять сынов да ясных соколов (Братья разбойники и сестра, 3, 499, 4). Наиболее
активно и последовательно в этой функции выступают лексемы, обозначающие птиц. Подобное словоупотребление вполне ожидаемо: лебедь в славянской культуре – ярко выраженный феминный символ, знак женской красоты, любви, нежности, верности; сокол и гусь обладают устойчивой мужской символикой, ассоциируясь в народном сознании с образом жениха.
Преобладание в «Онежских былинах» отрицательно окрашенных зоо- и фитометафор совпадает и с общеязыковой традицией, нашедшей отражение в современных толковых словарях и научных исследованиях [1], [2], [7], [9].
-
II. Сравнение . Названия животных и растений в анализируемых текстах в большинстве случаев (83 примера из 102) выступают в качестве образа, а не предмета сравнения и используются для описания внешности героя, его манеры говорить и передвигаться, для изображения сражения, характеристики быстроты течения времени или передвижения корабля, а также указания на количество предметов. С формальной точки зрения сравнения, образованные в «Онежских былинах» с помощью лексем – названий животных и растений, можно разделить на следующие группы:
-
1. Выраженное сравнительным оборотом с союзами «как» (37), «бу/ыдто» (10/3), «быв» (6), «бы» (5), «аки» (4): «птица», «соловей», «сокол», «маков цвет», «дуб», «трава», «скотинина», «зверь», «соболь», «заяц»: День тут за день как птица летит (Добрыня и Алеша, 1, 346, 48);
-
2. Выраженное субстантивом в родительном падеже (35) – стяжение оборота с предлогом «как у…»: «птица», «сокол», «лебедь», «соболь», «лань»: А походочка-то [у Настасьи Митриевны] лани златорогие (Иван Годинович, 3, 496, 32);
-
3. Выраженное с помощью сопоставительной сложной конструкции (1): «кувыль»: Да и столько поганых татаровей, да и сколько в чистом поле кувыль травы (Братья Дородовичи, 3, 315, 42-43).
В 19 примерах названия животных и растений являются предметом сравнения, при этом всегда образом сравнения также выступает фитоним или зооним. Чаще всего в качестве предмета сравнения выступает лексема «конь». Сопоставление быстроты движения этого животного и скорости полета сокола является самым частотным. Сравнение «конь как зверь» указывает на сходство, казалось бы, несопоставимых (название конкретного животного с одной стороны и слово, обозначающее родовое понятие – с другой) лексем, но в фольклорном тексте своя логика: домашнее, знакомое животное, верный помощник и спутник героя, иногда, обычно в сражении, может вести себя как дикий, почти неуправляемый, страшный, неведомый и непонятный зверь. Индивидуально-авторский характер носят сравнения, образованные сходным образом: оборот «покорить змею как скотинину», демонстри- рующий сопоставление дикого и домашнего животных, и оборот, образованный лексемами, находящимися в гиперо-гипонимических отношениях, – «птица» и «соловей».
-
III. Параллелизм (словесно-образный, подкрепленный ритмико-синтаксическим, лексическим и морфологическим повтором) [5; 73–74]. Эта фигура используется для описания внешности героя, его манеры говорить и передвигаться, для изображения человеческих отношений и событий, описываемых в тексте эпической песни (казнь героев).
-
1. Отрицательный (59): «греч», «гречет», «кречетушко», «кречетко», «сокол», «соколик», «соколичок», «соколичек», «голубь», «горох», «ворон», «гусь», «утушка», «уточка», «лебедь», «лебедушка», «комарик», «трава», «березка», «береза», «горносталюшко», «горностай», «гор-носталь», «заюшко», «куночка»: Не ясен сокол там пролетывал, да не белой кречетко вон вы-порхивал, да проехал удалой дородний доброй молодец (Дюк, 3, 186, 6-8);
-
2. Положительный (4): «соловей»: Кабы на соловья не зима бы студеная, не морозы бы были крещенские, не летал бы я соловей по мхам, по болотечкам, по частым наволокищам, кабы да ай на молодца мне не служба государева (не наборы бы были солдатские), не ходил бы я молодец по чужой я по дальной стороны, по тыя бы по Свир-ской украины (Молодец и королевна, 2, 531, 1-12).
Отрицательный параллелизм, «особенно популярный в славянской народной поэзии» [3; 185] и явно преобладающий в отобранных примерах, часто оформляет в былинном тексте так называемые loci communes. В нашем случае это описание поездки богатыря, движения которого соотносятся в разных эпических текстах с движениями горностая и зайца, сокола и кречета (многочленные конструкции), а также вóрона.
-
IV. Гипербола (31): «птиченка», «птичика», «птица», «соловей», «сокол», «воробей», «ворон», «волк»: Много множество татар да по-ганыих, ведь серому-то волку в день-то не оскакать, черному ворону в день не облететь (Илья Муромец и Калин царь, 2, 330, 153–155). Художественное преувеличение, включающее в свой состав зоонимы и фитонимы, используется в текстах «Онежских былин» при описании величины войска (обычно вражеского), размеров города (чаще всего Киева) и высоты каблука у сапог (в одном из вариантов сюжета «Смерть Чу-рилы», записанном от П. Т. Антонова в Пудоге, – у «лапотцев») героя былины.
-
V. Антитеза (2): «конь», «зверь». Оседлав и нагрузив золотой казной и цветным платьем своего коня, Дюк смотрит на него с удивлением, словно не узнавая: «Али добрый конь, али ты лютый зверь» (Дюк, 3, 241, 190). Этот пример можно охарактеризовать и как параллелизм, поскольку обе противопоставленные части слож-
- Названия животных и растений как тропо- и фигурообразующие элементы фольклорного текста...
ного предложения имеют сходное строение. Подобное противо- или сопоставление становится понятным, если поставить его в один ряд со сравнением «конь как зверь», о котором говорилось выше.
В «Онежских былинах» встречаются и другие примеры, которые не поддаются однозначному истолкованию. В былине «Вольга» царице снится «нехороший» сон: Бьется сокол да с черным вороном, перебил сокол да черна ворона: ясный тот сокол - Вольга богатырь, черный тот ворон - то сам Сантал (Вольга, 1, 248, 42-45). «Сокол» и «ворон» в этом примере могут быть и метафорическими изображениями людей – героев-антагонистов в былине, и их зооморфными воплощениями (подобная функция зоонимов является одной из самых распространенных в анализируемых текстах: герои былин и исторических песен довольно часто превращаются в зверей, птиц или рыб). Похожий пример встречается в варианте исторической песни «Прусский король», записанном от Ивана Григорьевича Захарова в Водлозере. В этом тексте жена прусского короля на вопрос, куда же исчез ее муж, отвечает: Ай за столом сидел прусский король да белой лебеди, ай на окошечки сидел прусский король ай сизым голубом, и на корабль полетел прусский король вот он черным вороном (Прусский король, 3, 45, 17–19). Еще один отрывок по форме напоминает конструкцию с отрицательным параллелизмом, однако ей не является: Налетели на шатер на Кощуев ведь да два сизых два голубя, да не два голубя налетало - два анге- ла (Женитьба Ивана Годиновича, 3, 351, 110–112). Во второй части предложения просто уточняется, что на помощь Ивану, который молил Бога о спасении, прилетели не обычные птицы, а небесные посланники, принявшие вид голубей. Примечательно, что о божественном характере этих птиц в текстах сборника прямо говорится только в этом варианте былины, в остальных случаях (в текстах, где герой не молится) находят отражение лишь общие представления о голубях как о птицах, которых запрещено убивать.
Подобное смешение прямых и переносных значений слов, а также трудность отграничения разных средств художественной выразительности друг от друга могут быть объяснены не только недостаточным для точной дефиниции значения того или иного элемента контекстом, но и сохранившейся в языке фольклора небольшой дистанцией между «образом и значением» [8; 287], а также родством, близостью, пограничным характером формирующихся в языке фольклора разных средств художественной выразительности – параллелизма и связанных с ним генетически сравнения и противопоставления, а также метафоры4.
Таким образом, лексемы, обозначающие животных и растения и довольно активно участвующие в создании средств художественной выразительности в текстах «Онежских былин», с одной стороны несут в себе отражение древних мифологических представлений славян, а с другой – участвуют в формировании новой поэтической системы, соответствующей большей частью антропоцентричному миру русского эпоса.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Названия животных и растений как тропо- и фигурообразующие элементы фольклорного текста (на примере «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга)
- Большой академический словарь русского языка: [В 17 т.]/Под ред. К. С. Горбачевича. М.; СПб.: Наука, 2004-.
- Большой толковый словарь русского языка/Глав. ред. А. С. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. 1536 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л.: Худож. лит., 1940. 408 с.
- Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года: В 3 т. Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
- Калашникова Е. А. Параллелизм как составляющее формульности эпического текста//Язык русского фольклора: Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1988. С. 71-82.
- Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв.: В 2 вып. М.: Языки славянских культур, 2000; 2010.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. 944 с.
- Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М.: Высш. шк., 1990. 344 с.
- Пуцилева Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фитонимов (На фоне итальянского языка): Автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2009. 18 с.
- Тарланов З. К. Герои и эпическая география былин и «Калевалы». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 244 с.