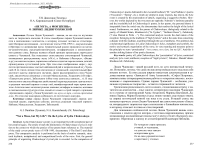"Не муза, а моя жизнь": о лирике Лидии Чуковской
Автор: Данилина Галина Ивановна, Кармишенский Николай Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Поэзия Лидии Чуковской - важная, но все еще не изученная часть ее творческого наследия. В статье своеобразие лирики Чуковской выявляется в соотношении с контекстом, к которому отсылает поэтика ее стихотворений. Материал исследования - поэтические тексты 1938-1995 гг., документальная («Прочерк») и дневниковая проза. Сравнительный анализ проводится на мотивно-семантическом, структурно-ритмическом, метафорическом и композиционном уровнях стиха. Вначале выявлен общий принцип организации лирического сюжета у Чуковской. Как показывает сопоставление стихотворений Чуковской, посвященных расстрелянному мужу («М.»), и Набокова («Расстрел», «Весна» и др.), во многом сходных, лирическое событие создается перечислением деталей, организующим суггестивный ритм. При этом сами изображенные миры у двух поэтов противоположны: светлый набоковский рай и непреодолимый ад у Чуковской. В ее стихах личная тема неотделима от социальной; документальный факт достигает высоты лирического звучания. Далее рассматриваются стихи Чуковской, диалогически связанные с поэзией Мандельштама, Ходасевича («В тифу», «Ташкентские розы»), Заболоцкого («Мне тоже захотелось написать.»). В ходе контекстного анализа обнаружен двойственный характер рецепции: причастность к традиции «высокой лирики» и спор с ней, манифестируемый через прием антитезы. Антитеза имеет метатекстуальное значение; метафоры и символы, мотивная и синтаксическая структура стиха, самый его смысл и строй говорят о принципе «прозаизации» лирики у Лидии Чуковской: «не муза, не лира, а жизнь прожитая моя». И в этом еще одна яркая особенность ее поэтического дискурса.
Лирика лидии чуковской, прозаизация лирики, контекстный анализ, лирическое событие, антитеза, рецепция высокой лирики, набоков, мандельштам, ходасевич, заболоцкий
Короткий адрес: https://sciup.org/149139234
IDR: 149139234 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_236
Текст научной статьи "Не муза, а моя жизнь": о лирике Лидии Чуковской
Лидия Чуковская - яркий русский поэт, по сути неизвестный читателю. Возможно, потому, что сама она как автор меньше всего мыслила себя именно поэтом. Ее имя сделала широко известным документальная и художественная проза: «Записки об Анне Ахматовой», «Софья Петровна», замечательные литературоведческие работы и «открытые письма», воспоминания о современниках. Однако лирика Чуковской - особенная, уникальная страница ее творчества - остается оторванной от читателя.
Трагическая разделенность поэта и книги, отодвигавшая встречу с читателем на десятилетия - опыт многих литераторов поколения Чуковской, но в отличие от произведений Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Даниила Хармса, Марии Петровых (здесь можно назвать еще немало имен), ее лирика поэтической книгой так пока и не стала. В нашей статье мы пытаемся прочесть стихи Лидии Чуковской как самостоятельную область ее литературного творчества через соотнесение с ближайшим контекстом, к которому отсылает поэтика ее стихотворений.
Для понимания особенностей поэзии Лидии Чуковской важны сопоставления с опытом других авторов, с поэтами-современниками, причем неожиданные ассоциативные поводы могут вести к более объемному восприятию. Обратимся к одному из стихотворений Владимира Набокова.
По четвергам старик приходит, учтивый, от часовщика, и в доме все часы заводит неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет и переставит у стенных.

На стуле стоя, ждать он станет, чтоб вышел полностью из них весь полдень. И благополучно окончив свой приятный труд, на место ставит стул беззвучно, и чуть ворча часы идут [Набоков 1990 Ь, 27].
Здесь герой романа безусловно заимствует у автора биографический арсенал. Стихи о юности - из области рая; эта тема отчетливо проявлена в отдельном от романа стихотворении (1923):
Глаза прикрою - и мгновенно, весь легкий, звонкий весь, стою опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю [Набоков 1990 а, 65].
«В раю» - это в России, в молодости, в невозвратимом прошлом. Стихотворение о часах и времени включает подробный, почти навязчивый перечень частностей, мелких деталей. Будничная вещь, предмет из повседневного обихода, бытовой момент насыщаются самостоятельным смыслом. Обыденная вещь получает эстетическую ценность и становится уникальной. Отсюда многие стихи героя в романе «Дар» соотносимы с текстом совершенно иного содержания - это стихотворение Лидии Чуковской, посвященное расстрелянному мужу (1938):
М.
... А то во сне придет и сядет Тихонько за столом моим. Страницы бережно разгладит Узорным ножиком своим. Себе навстречу улыбнется. То к полкам книжным подойдет, То снова над столом нагнется, Очки протрет, перо возьмет... И я проснусь, похолодею, В пустую брошенная тьму. Никак тебя не одолею -Сердцебиенье не уйму [Чуковская 2013, 517].
Совершенно разные произведения с не имеющими ничего общего биографическими предпосылками: эпизоды счастливого детства - и мученическая гибель любимого человека. Вместе с тем есть основания для сопо- ставления. Несложно обнаружить сходство во внешнем рисунке формы: двенадцатистрочные стихотворения, написанные четырехстопным ямбом со сходной схемой рифмовки. Но более существенна общность в самом приеме перечисления, в его дробности. Тексты организованы парадоксальным образом: при «бытовой» незначительности в развитии лирического сюжета у Набокова и (до развязки-пробуждения) у Чуковской сама обыденность и обыкновенность репрезентативна. Последовательная стесненность «родных» мелочей: предмета, жеста, портретной черты - организует воздействующий семантический ритм. Формально незначительная деталь наполняется исключительным содержанием и создает лирическое событие. Однако итоговые сферы изображаемого у двух поэтов сугубо противоположны: набоковский рай и непреодолимый ад у Чуковской.
А.С. Долинин отмечал, что память, «таинственное предвидение Мнемозины», у Набокова неотделима от воображения [Долинин 2019, 225]. Лидия Чуковская в повести «Прочерк» характеризует иной, обобщенносимволический и одновременно подчеркнуто реалистичный, жизненный маршрут: «От родного дома к Большому» [Чуковская 2013, 424]. В одном случае «заботливая» Мнемозина, в другом - память как непреходящая экзистенциальная мука. «Пусть не заподозрит меня читатель в самомнении, - писала Чуковская в повести «Прочерк», - но пусть поймет тревогу, мой душевный озноб, когда после Митиной гибели <...> перечла я страницу “Охранной грамоты” Пастернака: “<.. . Действительность предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. <...>. Мы пробуем назвать его. Получается искусство”. Да, действительность предстала мне в тридцать седьмом в новой категории <.. .> и приводила меня в то состояние, ни пребывать в котором, ни выйти из которого без опоры на слово я не могла» [Чуковская 2013, 438-439].
Итак, метаморфоза, присущая творческому процессу, «новая категория действительности», когда поэзия «с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия» [Мандельштам 1990, II, 214], у Чуковской словно отменяется новой реальностью. Иррациональный ужас действительности, уродство и террор водворяются на вполне пространственном поле действия. Поэтому в творчестве Чуковской органично обращение к социальному факту, к документально зафиксированной бытовой детали.
Место действия - Большой Дом, еще два года до тридцать седьмого. «Хозяев двое: один чернявый кавказец, другой русский, с перманентно завитой белобрысостью. Оба в военном, и оба с кобурами у пояса. Не револьверы меня удивили <.. .> меня испугало то, что оба они, болтая ногами, сидели не за письменным столом, а на письменном столе, и не чернильница стояла между, а недопитая пивная бутылка, два стакана и огурец. - Присядьте, - сказал перманентный и придвинул мне стул - ногой. Я испуганно села. Ноги в высоких сапогах, пахнущие потом и гуталином, болтались недалеко от моих плеч и лица» [Чуковская 2013, 436].
Сочетание документа и метафоры, тропа - выразительная особенность дискурса Чуковской; личная тема неотделима от социального факта, порождающего «душевный озноб». Стихотворение «А то во сне придет и сядет...» по характеру лирического события можно сопоставить с набоковским «Расстрелом» (1927):
Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.
Проснусь...<...>
Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг [Набоков 1990а, 44].
И у Чуковской:
И я проснусь, похолодею, в пустую брошенная тьму...
Два контрастно противоположных пробужденья: в одном случае из кошмара в спасительную реальность, в «благополучное изгнанье», в другом - из радости сновидения - в кошмар реальности, где расстрел без черемухи и казнь без приглашения на нее.
По душевному состоянию лирического «я» стихотворение Чуковской сопоставимо с тютчевским «Вот бреду я вдоль большой дороги...» («Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»). Оба стихотворения - о смерти, о непостижимой утрате самого близкого человека. Пронизанные неизбывной скорбью, они сродни молитве, плачу. Факт разлуки и вместе с тем «нераз-деленности» с ушедшим порождает интонацию сакральности: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...». В обоих стихотворениях для лирического героя помимо скорби не существует иного душевного бытия. Однако художественный контекст у Чуковской иной. Навязанное извращенное бытие, социальный вывих, «прервавшаяся связь времен», но при этом вопрос «быть или не быть» не актуален: нет выбора - есть приговор. Реальность словно аннексировала приемы у искусства, суровый гротеск сделался обыденностью. Действительность в своей «новой категории» разделила людей на палачей и жертв, ни в чем не повинных.
Ощущение неизбывной несправедливости и твердое неприятие ее -вот непреходящий тон произведений Чуковской. Раскрывать ее книги - как входить в дом человека, только что понесшего роковую утрату; состояние душевного траура доминирует в ее лирике. Не «чувство солидарности с горем» (Бродский), а горе как таковое:
Я знаю, ты убит. А я еще жива. Освобождения не наступили сроки. Я жить осуждена. Седая голова И пеплом старости подернутые щеки. 1 марта - 16 апреля 1939 [Чуковская 2013, 518].
«Мир, где жили мы с тобою» (Тютчев) более не существует: произошла катастрофа, и нормой стала не просто смерть, а убийство; зловещее уродство доминирует в этом мире, и «красота», которая «спасет его», невозможна. Строки Осипа Мандельштама «А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш» («Дайте Тютчеву стрекозу...» [Мандельштам 1990, I, 189] сегодня соотносимы с мучительной для нас судьбой Лидии Чуковской, «вольной» над своими читателями, возможно, и потому, что ей удалось в стихах, написанных «по эту сторону смерти» [Чуковская 2013, 521], поднять документальный факт на высоту лирического звучания.
Стихи Лидии Чуковской, без сомнения, тесно связаны с литературной поэтической традицией, они откликаются на голоса и образы многих ее предшественников и современников. Вместе с тем само восприятие этой традиции в ее стихах далеко не однозначно. С одной стороны, это глубокая личная, имманентная причастность к опыту русской поэзии:
Я вдруг увидела Неву <...> Рекою Пушкина и Блока, Гравюрой, образом судьбы, Она раскинулась широко [Чуковская 2012, 276].
С другой - отчетливое осознание разрыва, манифестируемое через прием антитезы, в лирике Чуковской один из ключевых. Антитеза открывает конфликтное состояние лирического «я»: жизнь раскололась надвое, и то, что было, противоположно тому, что стало.
С тех пор, как я живу ничья В суровом вихре лет, -Легко струится жизнь моя, Но жизни больше нет. Она осталась за чертой Далекой той весны, Улыбки той и песни той, Что в прах превращены (1945) [Чуковская 2012, 286].
Здесь сконцентрирован весь смысл конфликта, его центральное значение: жизнь «легко струится» - но «жизни больше нет».
В лирике Чуковской антитеза многоаспектна и появляется на разных
уровнях стиха. Это контрастные, оксюморонные образы: обещал ты веселье / Оказалось - тюрьма; Рассвет! Останься лучше тьмою; Но как мне холодно в тепле; черный снег; лексические и синтаксические средства: отрицания нет, не надо, неправда, частицы не и ни с усилительным значением; двойное тире, акцентирующее резкость противопоставления: «И не от ужаса трепещет - / От ветра - тополь у ворот».
В ряде стихотворений антитеза становится принципом организации уже не отдельного мотива, образа или детали, а всего текста.
На чужой земле умереть легко, Чужая земля не держит.
Ни в огне огоньком, ни во ржи васильком, Ни памятью, ни надеждой.
Только жить нельзя на чужой земле, Недаром она чужая.
Звездами, как дитя, разыгралась во мгле, О горе твоем - не зная
-
(1942) [Чуковская 2012, 262].
Смысловые оппозиции умеретъ-житъ, легко-трудно, свое-чужое, контрастность высокого-низкого (земля-звездное небо), малого и великого (жить-играть, огонек, василек - память, надежда), антонимические формы в лексике (нельзя, недаром, не зная с подтекстом можно, зная) и синтаксисе (ни-ни в повторяющихся конструкциях; тире в последнем стихе) организуют поэтику стихотворения в целом.
Можно сказать, что в лирике Чуковской противостоят друг другу два мира, с резко различным устроением, наполнением, значением.
В трамвае, запечатанном морозом,
Я ехала сквозь ругань, сквозь Москву (Авоськи, спины, злость, толчки, угрозы) И все-таки мечтая наяву -
Что если бы - вот только дверь открою! -А там полно и мачт, и парусов, И сосны темные, и море вновь со мною И ветер - брат убитых голосов!
-
(1945) [Чуковская 2012, 284].
Многоцветная и многозвучная картина бытия создается противопоставлением двух миров, у каждого из которых свое, отдельное пространство: душный, набитый людьми трамвай - и безграничность морского простора. В одном мире «авоськи» и «злость» такие, что нечем дышать в буквальном и переносном смысле, в другом ветер колышет паруса на мачтах и сосны на берегу, все дышит свободой, радостью и жизнью. Но погибло все, что наполняло прошлое смыслом и теплом; настоящее, с его мертвенной прозаичностью, и прошлое в его жизнетворческой полноте разделены и несоизмеримы.
Однако, и это в назначении антитезы, возможно, главное, поэт не отвергает столь «непоэтической», скудной реальности, а напротив, вглядывается именно в нее, всматривается настоятельно и пристально.
Сверкнет, начищенный до блеска,
Валютный купол в небесах, Над злым разором деревенским, Подъемля красоту и страх.
Сияя искреннею верой И показухой золотой... Нет, лучше купол неба серый, Над серой, серой, серой, серой, Над Богом брошенной землей (1975) [Чуковская 2012, 317].
Образ купола внутренне антитетичен: сияющий золотом валютный купол на церковном храме и «серый» купол неба со- и противопоставляются. Четырехкратный повтор слова «серый» акцентирует осознанность выбора: серый купол несопоставимо «лучше», поскольку земля скудная, нищая, «серая». Тем самым, это символ с эстетическим содержанием: если земля «серая», то и язык поэта обязан стать «серым» - приглушенным, прозаичным. Посреди «злого разора» «золотая показуха» невозможна, этически недопустима.
Таково общее направление, в котором соотносятся разнообразные виды антитезы, применяемые Чуковской. Метафоры и символы, мотив-ная и синтаксическая структура стиха, самый его смысл и строй говорят о «прозаизации» лирики в противовес поэтической традиции:
И вот на посмешище мира,
Смущенье свое не тая,
Выходит не муза, не лира, А жизнь прожитая моя [Чуковская 2012, 251].
Антитеза, таким образом, получает метатекстуальное значение: не муза и не лира, как то было в высокой лирике, а моя жизнь теперь определяет новый язык поэзии. И у этой поэзии уже совсем другая «муза»; интонация в ее адрес резко снижена и иронична.
Маленькая, немощная лира.
Вроде блюдца или скалки, что ли. И на ней сыграть печали мира!
Голосом ее кричать от боли. Неприметный голос, неказистый, Еле слышный, сброшенный со счета... (1968) [Чуковская 2012, 309].
Если сравнить этот взгляд на музу с ее образом у Ахматовой, столь близкого Чуковской поэта, контраст в понимании языка лирики особенно очевиден.
Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
Но вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула не меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада»? Отвечает: «Я!» [Ахматова 1989, 144].
Возвышенно-трагический образ музы («О, Муза плача, прекраснейшая из муз!» - Цветаева об Ахматовой) и буднично окрашенный, демонстративно приземленный у Чуковской во всем противоположны, но в то же время и близки обращенностью к «печалям мира».
«Жизнь вместо лиры» - так можно определить путь взаимодействия и споров с традицией в лирике Чуковской, - путь, рождающий ее собственный стиль и дискурс. Отсюда и встреча с современниками происходит в сложной, конфликтной форме. Это одновременно и согласие и отторжение, как то происходит в «адресных» стихах Чуковской, построенных на отчетливом диалогическом контексте. Таково, например, стихотворение «В тифу»: прямые цитаты из Мандельштама и характер их включения в текст открывают двойственность, амбивалентность рецепции.
Мандельштам (1935-1936):
Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе, Ее чужелюбая власть привела К насильственной жаркой могиле.
И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей Холодной стокгольмской постели.
<...> [Мандельштам 1990,1, 219-220].
Чуковская, «В тифу» (1942-1943): «И твердые ласточки круглых бровей...» Не надо. Не надо. Не надо.
«Сказать, что они отлежались в своей ...» Какая от слез прохлада!
Какая отрада - сквозь лютый зной Схватиться за слово поэта, Чтоб строки на север вели за собой К могиле, затерянной где-то [Чуковская 2012, 273].
Автор максимально сближает смысловую, образную и ритмическую структуру своего стихотворения с цитируемым источником; «схватиться за слово поэта» - «отрада». Тем не менее конфликт заявлен с самого начала, через резкое и трижды повторенное «не надо».
Мотив ласточки, с его разветвленной интертекстуальной поэтикой, влекущей читателя в глубину литературного предания вплоть до его античных истоков [Мандельштам и античность, 1995], переключается у Чуковской на подчеркнуто бытовой, «непоэтичный» регистр болезни. Ласточки, волшебства красоты и тайны, больше нет, а есть «затерянная где-то могила». Мандельштам, как известно, писал о смерти Ольги Ваксель, покончившей с собой в Норвегии (у Мандельштама в Швеции; см. коммент. П. Нерлера [Мандельштам 1990, I, 547]); и на первый план у Чуковской выходит как раз ледяной северный холод, а не «литературная» красота поэтического образа. Холод смерти и памяти о погибших единственно утешителен для воспаленного тифом сознания.
В диалогическом контексте стихотворения «В тифу» участвует и Владислав Ходасевич; приведем две строфы из его «Искушения» (1921):
«Довольно! Красоты не надо. Не стоит песен подлый мир. Померкни, Тассова лампада, Забудься, друг веков, Омир!
«Душа! Тебе до боли тесно Здесь в опозоренной груди.
Ищи отрады поднебесной, А вниз, на землю, не гляди» [Ходасевич 1989, 131].
Тема у поэтов общая - «не надо красоты», но Чуковская снова осуществляет переворот, полную метаморфозу смысла. У Ходасевича «не стоит песен подлый мир», а у Чуковской, напротив, красота «не стоит»
мира, поскольку оборачивается кощунством перед лицом смерти.
Мотив кощунства ясно звучит в «Ташкентских тетрадях» (1942):
Ташкентские розы в кокетливо-хрупком снегу.
Минутной зимы ледяные блестят небылицы.
Но я на красивое больше смотреть не могу. Кощунственна эта лазурь, лепестки и ресницы! [Чуковская 2012, 263]
«Кощунственно», по мысли Чуковской, восторгаться красотой цветов, звезд, первого снега или высоких чувств: трагическая реальность российской истории XX в. с ее бесчисленными жертвами делает это этически невозможным. В дневнике Чуковской за 1954 г. есть выразительная запись: «В “Новом Мире”- Берггольц. Талантливо и как-то растленно (выделено мной - ГД?). Телячий восторг по каждому поводу: голод, смерть, блокада -все вызывает ее восторженное умиление» [Чуковская 2015, 116].
«Но я на красивое больше смотреть не могу» - это манифестация разрыва с «высокой» идеей красоты. Сходный принцип своеобразной проза-изации языка лирики увидим и в стихотворениях, реминисцентно связанных с Н.А. Заболоцким. С этим поэтом Л.К. Чуковская была хорошо знакома долгие годы, начиная еще со времен Ленинградской редакции Детгиза.
Николай Заболоцкий («Завещание», 1947):
Над головой твоей, далекий правнук мой, Я в небе пролечу, как медленная птица, Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия. <.. > [Заболоцкий 1990, 239].
Лидия Чуковская (1946):
Мне б вырваться хотелось из себя И кем-нибудь другим оборотиться. Чтоб я - хотя б на миг один! - была не я, А камень, или куст, или синица. <.. > X там опять - в постылый, мертвый путь.с.. > [Чуковская 2012, 288].
Мотив превращения в птицу, характер рифм и образов в двух стихотворениях близки по существу, но тональность противоположна. У Заболоцкого она строится на приеме градации и звучит как торжественный гимн «прекрасному бытию», у Чуковской, напротив, используется литота: человек «уменьшается» до синицы; тон тоже совсем иной и говорит об усталости и смерти.
Интересно, что совсем иначе строится встреча с Заболоцким в другом стихотворении Чуковской. Сначала приведем фрагменты из стихотворения Заболоцкого «Прощание с друзьями» (1952).
Там на ином, невнятном языке
Гудит синклит беззвучных насекомых, Там с маленьким фонариком в руке Жук-человек приветствует знакомых.
Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам, и все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи, Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры - цветики гвоздик, Соски сирени, пестики, цыплята, И уж не в силах вспомнить ваш язык Там наверху оставленного брата.
Стихотворение по самой своей сути родственно поэтическому дискурсу Чуковской; тема «прощания с друзьями», скорбной боли и памяти для нее биографически и творчески главная. Вот ее текст (1939).
Мне тоже захотелось написать
О маленьких ростках травы, о злаках,
Что лезут в эту серую тетрадь
Щекочут, колются и так мешают плакать.
Их стебельки все льнут к моей руке.
Их горький вкус отраднее, чем сладость.
И где-то на каком-то языке
Зеленый лист обозначает радость.
А клен, наверное, закату брат.
Румянцем расцветает зелень клена.
И не о братстве ли они всегда шумят, Лесных владык могучие знамена?! [Чуковская 2012, 253].
Стихотворению Чуковской можно дать то же название, «Прощание с друзьями». Но не только тема расставания, печали и памяти - поэтический размер, лексика, общее звучание стиха, сама картина мира теснейше взаимодействует с тем, что увидел и высказал Заболоцкий. И здесь уже нет ни снижения интонации, ни прозаизмов; это не спор, а «братство», взаимопонимание единомышленников. Мотив братьев, братства - один из самых выразительных и в стихах, и в прозе Чуковской: «Пишешь для себя;
говоришь как сама с собой шепотом в темноте, потом пустишь свое слово в океан людской - и вдруг оно отзывается в сердцах - в сердцах братьев. Они отвечают. Это единение, это любовь, это счастье» [Чуковская 2015, 114].
Однако, при всех перекличках с Заболоцким, столь заметных и ярких, у Чуковской это стихотворение-загадка: текст Заболоцкого создан в 1952 г. [Эткинд 1973, 298], а текст Чуковской датируется 1939-м. Но желание «тоже написать» в сходной стилистике и на сходную тему не могло появиться раньше, чем предполагаемый источник, это желание пробудивший.
Л.К. Чуковская, преследуемая властями и исключенная из Союза писателей, почти всю свою жизнь должна была писать «в стол»; в течение многих лет она возвращалась к старым текстам, переделывала их и уточняла, перерабатывала варианты, и большая текстологическая работа над ее поэтическим наследием, включая вопросы хронологии, только еще предстоит.
Один из внимательных читателей Чуковской отмечал: «Сегодня мы уже знаем ее прозу. Эта проза, мемориальная, удивительно и точно художественна. Но <...> пока, как мне кажется, прошли нерасслышанными ее стихи» [Чуковская 2015, 10]. Это сказано четверть века тому назад, в 1990-е, когда мало кто из читателей заметил первый поэтический сборник [Чуковская 1992]. С тех пор появилось много новых публикаций и книг Лидии Чуковской, вышло многотомное собрание ее сочинений под редакцией Е.Ц. Чуковской, создан замечательный информационный ресурс о семье Чуковских [; создатели сайта Ю. Сычева и Д. Авдеева], но со стихами дело обстоит примерно так же. Они почти не изучены, и главная задача сейчас - попытаться расслышать голос этой лирики, распознать ее язык и его неповторимость.
В дневнике за 1955 г. Л.К. Чуковская упоминает о своем споре с К.Г. Паустовским: Паустовский «требует изучать, подслушивать язык, составлять словари. Но дело художника исповедоваться, а исповедоваться, говорить последнюю правду, можно только на своем языке. Обворожительно слово окоем (я его давно знаю), но ведь оно не моего языка» [Чуковская 2015, 119-120]. Наше исследование показывает, что для языка Чуковской важен прием антитезы. С его помощью она строила свой лирический мир диалогически, как встречу и спор с поэтической традицией: «не муза, не лира, а жизнь прожитая моя». И в этом яркая особенность ее лирики.
Список литературы "Не муза, а моя жизнь": о лирике Лидии Чуковской
- Ахматова А.А. Я - голос ваш. М.: Книжная палата, 1989. 383 с.
- Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб.: Симпозиум, 2019. 568 с.
- Заболоцкий Н.А. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. 400 с.
- Мандельштам и античность / под ред. О. Лекманова. М.: Мандельштамовское общество, 1995. 209 с.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Стихотворения / сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера. М.: Художественная литература, 1990. 638 с.
- Мандельштам О.Э. Разговор о Данте // Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 2. / сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера. М.: Художественная литература, 1990. С. 464 с.
- (а) Набоков В.В. Ангелом задетый: стихи. Вып. 1. М.: Вся Москва, 1990. 79 с.
- (b) Набоков В.В. Дар: роман. М.: Соваминко, 1990. 350 с.
- «Отдав искусству жизнь без сдачи»: Корней Чуковский. Лидия Чуковская: [сайт] / Ю. Сычева, Д. Авдеева. М., 2004-2018. URL: https://www.chukfamily.ru (дата обращения: 11.08.2021).
- Ходасевич В. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1989. 464 с. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Чуковская Л.К. «Дневник - большое подспорье.» / сост., коммент. Е.Ц. Чуковской. М.: Время, 2015. 416 с.
- Чуковская Л.К. Прочерк: повесть. М.: Время, 2013. 544 с.
- Чуковская Л.К. Софья Петровна: повести; стихотворения. М.: Время, 2012. 384 с.
- Чуковская Л.К. Стихотворения. М.: Горизонт, 1992. 128 с.
- Эткинд Е.Г. Н. Заболоцкий. «Прощание с друзьями» // Поэтический строй русской лирики. Л.: Наука, 1973. С. 298-310.