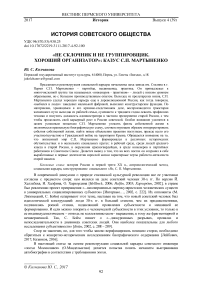"Не склочник и не группировщик. Хороший организатор": казус С. П. Мартыненко
Автор: Колчанова Юлия Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советского общества
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Предлагается реконструкция социальной карьеры начальника цеха завода им. Сталина в г. Перми С.П. Мартыненко - партийца, выдвиженца, практика. Он принадлежал к многочисленной группе так называемых «инженеров - практиков» - людей с низким уровнем образования, но с большим производственным опытом. Выходец из пролетарских низов, С.П. Мартыненко сделал хорошую карьеру еще в дореволюционной России, как тогда говорили, «выбился в люди»: заведовал маленькой фабрикой, выполнял конструкторские функции. По материалам, хранящимся в его архивно-следственном деле, воспроизводится траектория жизненного пути выходца из рабочей семьи, сумевшего к тридцати годам освоить профессию техника и получить должность администратора в частном предприятии старой России, с тем чтобы продолжить свой карьерный рост в России советской. Особое внимание уделяется в целом успешным попыткам С.П. Мартыненко уложить факты собственной жизни в политически правильную биографическую схему, соответствующим образом интерпретировать события собственной жизни, найти новые объяснения прежним поступкам, прежде всего его участию/неучастию в Гражданской войне на территории Крыма. Обращается внимание на то, что жизненный мир С.П. Мартыненко формировался в различных исторических обстоятельствах и в нескольких социальных кругах: в рабочей среде, среди людей среднего класса в старой России, в окружении красногвардейцев, в среде инженеров и партийных работников в Советском Союзе. Делается вывод о том, что на всех постах он сохранял в себе выработанные в первые десятилетия взрослой жизни характерные черты рабочего-металлиста старой закалки.
История России в первой трети xx в, антропологический метод, социальная карьера, конструирование социального "я", с. п. мартыненко
Короткий адрес: https://sciup.org/147203843
IDR: 147203843 | УДК: 94(470.53):930.25 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-92-100
Текст научной статьи "Не склочник и не группировщик. Хороший организатор": казус С. П. Мартыненко
В современной дискуссии о природе сталинской культурной революции все ее участники согласны с предметом спора: кем являлся на деле советский человек 30-х гг. По версии Й. Хелльбека, И. Халфина, О. Хархордина [ Hellbeck , 2006; Halfin , 2003; Хархордин , 2002], в стране был реализован проект превращения «...несовершенных партикуляристских человеческих существ в универсальных социализированных субъектов» [Интервью…, 2002, с. 222]. Их оппоненты (М. Липовецкий, С. Бойм) оспаривают этот тезис, наставая на том, что новый советский человек был идеологической конструкцией: люди 30-х гг. в большей степени, чем их предшественники, подчинялись роевой стихии, подавлявшей проявления субъектности и мешавшей ее формированию. И если можно говорить о человеческой субъектности в этих условиях, то только в ее индивидуалистическом – отнюдь не коллективистском– выражении, к тому же фрагментарной и незавершенной. Так, С. Бойм пишет о «...дискурсивных разрывах, провалах и непоследовательности в дневниках советских людей. Они наиболее показательны для любого исследования субъективности» [ Бойм , 2002, с. 288 – 289].
Спор не закончен, но, для того чтобы заново верифицировать позицию сторон, необходимо обратиться к конкретно-историческим исследованиям биографического содержания [Лейбович, 2017; Казанков, 2016].
В настоящей статье на основе реконструкции социальной карьеры советского инженера «эпохи Москвошвея» (О.Мандельштам) делается попытка понять механизм выстраивания автобиографии в соответствии с требованиями эпохи.
Жизненный путь советских людей, входивших в номенклатуру, сопровождался большим количеством справок, анкет, заявлений, характеристик, приказов, всякого рода оправдательных документов, находившихся на текущем учете, как правило, в партийных учреждениях. Когда-то русский писатель М. Алданов заметил: «Поразительно число деловых бумаг, описей, инвентарей, протоколов, остающихся от рядовых французов» [ Алданов , 1995, с. 244]. В советских условиях эти документы так называемого временного хранения сохранились плохо. В некоторых случаях их передавали в государственные ведомственные архивы, но чаще всего уничтожали после определенного срока. И только если человек был репрессирован по политическим мотивам, их собирали в его архивно-следственном деле, которое полагалось «хранить вечно». Объем и отбор документов определялся квалификацией следователя. Неопытные и торопящиеся сотрудники НКВД складывали в папки как можно больше бумаг, обнаруженных при обыске или затребованных у партийных органов. В результате собирались толстые тома, наполненные самого разного рода документами, в настоящее время доступными для историков. Р. Гаррисон, восстановивший биографию советского военного теоретика, заметил, что «информация об этих (служебных и интеллектуальных. – Ю.К. ) аспектах его жизни пришла из многих источников. Но решающее значения для работы над книгой имело большое количество личной и служебной информации, содержавшейся в арестантском досье Иссерсона, хранящемся в архиве ФСБ в Москве» [ Harrison , 2010, p. 6].
Сергей Петрович Мартыненко – начальник механического цеха завода №19 имени Сталина Наркомата тяжелой промышленности СССР в г. Перми Свердловской области – входил в номенклатурные списки Промышленного отдела ЦК ВКП(б).Он принадлежал к тем людям, кто составлял костяк нового общества, – к советскому истэблишменту: партиец, администратор, инженер по должностным обязанностям, участник совещаний при наркоме обороны СССР, орденоносец, получивший в награду от С.Орджоникидзе легковую машину.
Источниковой базой исследования служат материалы архивно-следственного дела С.П. Мартыненко, начатого сотрудниками пермского горотдела НКВД в 1938 г. Следователи НКВД хотели получить признание во вредительской деятельности, а также показания на директора завода №19 и его сотрудников. Для того чтобы доказательства враждебной деятельности С.П. Мартыненко выглядели весомее, они конфисковали архив подследственного: партийные характеристики, справки, объяснительные записки, анкеты, не имевшие отношения у делу. Их можно считать эго-документами особого рода, бюрократическими по форме и личностными по содержанию. Интересны они тем, что позволяют судить о способах авторской самопрезентации, о моделях предъявления собственного «Я» властным инстанциям и партийной общественности.
Методологическим основанием исследования является концепция Н.Н. Козловой, согласно которой самоописание человека в советском обществе ориентируется на заданные биографические схемы1.
С.П. Мартыненко был молчуном. В протоколах партийных собраний завода №19 не обнаружено ни его развернутых выступлений, ни даже реплик, что делает невозможным провести деконструкцию такого рода текстов по методу И. Халфина и О.Лейбовича [ Лейбович , 2015].
Сергей Петрович Мартыненко, начальник механического цеха завода № 19, родился в 1887 г. в г. Керчи, в семье рабочего. В десять лет его отдали «...приказчиком в большую бакалейную лавку» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 5. Л. 62). Во всяком случае, так в своей ранней автобиографии написал С.П. Мартыненко. Представляется, что здесь он лукавил: должность приказчика требовала опыта, житейской сметки и другого возраста. Скорее всего, его взяли в лавку учеником или просто «мальчиком на побегушках». К тому времени Сергей Мартыненко завершил свое образование в народном училище в том же городе Керчи. Если верить анкете, заполненной им в 1923 г., то на этом его образование завершилось. В соответствующей графе секретарь и председатель окружного профбюро Мартыненко написал: «Низшее образование. Начальная народная школа» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 5. Л. 58).
Из сохранившихся документов следует, что С.П. Мартыненко – практик с большим рабочим стажем, но без соответствующего образования. В своих заявлениях в разные партийные инстанции он акцентировал свою пролетарскую закалку. Из лавки он сбежал, когда достиг одиннадцати лет: «...родители меня отдали на машиностроительный завод Бухштаба в Керчи2, где я начинал с ученика, проработал 14 лет в качестве литейного модельщика. В 1913 г. я перешел на завод
Золотарева. В 1914 г. работал на Брянском заводе, в 1915 г. опять на заводе Золотарева в качестве монтера и конструктора по постройке моторов системы Болиндер3, здесь я проработал до 1918 г.» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 62). Обратим внимание на должность конструктора. В своем письме в Керченский Истпарт (Комиссию по истории Октябрьской революции и истории РКП(б) при Наркомпросе)в августе 1929 г. Мартыненко объяснял свой отход от активной революционной работы тем, что был «...чрезвычайно втянут в работу завода (я тогда конструировал моторы на заводе у частного владельца и даже был в роли заведывающего заводом)» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 5–6).Следует заметить, что в начальном народном училище не преподавали ни черчение, ни физику, ни геометрию. Не известно, на каком языке шведская фирма предоставляла чертежи своим партнерам: на шведском, французском или немецком, но точно не на русском [ Gårdlund , 1945]. Для того чтобы работать конструктором – пусть даже на небольшом предприятии, нужно было иметь другое образование. И тогда возникает вопрос, где, когда и как рабочий по металлу его получил. В анкетах нет ответа. Можно предположить, что он обучался на профессиональных курсах, скорее всего, за границей за счет предприятия. К 1917 г. С.П. Мартыненко – отнюдь не пролетарий. По роду занятий он инженер, по социальному положению – частный служащий высшего звена – начальник завода. Квалифицировать его «рабочим лейтенантом капиталистического класса», как в те годы называли в социал-демократической литературе мастеров, десятников, артельщиков и иных представителей рабочей аристократии, нельзя ( Ленин , 1964, т. 37, с. 454). Он по социальному положению их превосходил. После революции члену РКП(б) приходилось если не скрывать, то всячески преуменьшать достигнутый при старом режиме статус.
Если какие-то фрагменты своей биографии человеку, делавшему советскую карьеру, приходилось не афишировать, то иные события, например, участие в рабочем движении, полагалось, напротив, подчеркивать. Членом РСДРП(б) он стал в конце 1917 г., пополнив ряды так называемых «октябрьских большевиков», бывших чем-то сродни «мартовским эсерам»4. В своих многочисленных анкетах С.П. Мартыненко указывал, что к рабочему движению примкнул в шестнадцать лет – в 1903 г., но в рядах меньшевистской организации «числился до 1906 года, участвуя во всех собраниях: летучих, массовых, кружковых, так как в Керчи была только меньшевистская фракция...» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 7928. Т. 5. Л. 62). На самом деле Керченская организация РСДРП, входившая в Крымский социал-демократический союз, была организацией объединенной, как и много иных местных партийных комитетов[ Шапиро , 1975, с. 102–107]. Во главе ее стояли люди, принадлежавшие к меньшевистскому крылу партии, несмотря на это организация считалась очень боевой и сплоченной. На ее счету были массовые рабочие выступления в 1903 г. [ Михайлов ]. Списки в организации не составлялись, так что нельзя быть в полной уверенности, что молодой рабочий С.П. Мартыненко являлся ее членом. Во всех анкетах он упоминает о своем революционном прошлом очень скупо и неохотно, ни разу не назвав товарищей по социал-демократическому подполью и не попытавшись продлить партийный стаж до 1903 г.5Свой уход из партии в 1906 г. объяснял не слишком правдоподобно– своим политическим прозрением: «Начав кое-что понимать, не будучи согласен с их тактикой, вышел из партии, участвуя лишь в подметах прокламаций. До 1917 г. я был почти вне партии» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 62). В другом документе С.П. Мартыненко высказывается о своем политическом прошлом более категорично: «С 1906 года до конца 1917 года я совсем не принимал никакого участия в революционной работе» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 5).
За четырнадцать лет работы на частных предприятиях в г. Керчи бывший мальчик из бакалейной лавки сделал большую по тем временам карьеру. В тридцать лет он трудился конструктором, выполнял административные функции в должности заведующего заводом, по-современному, директора предприятия. Из сохранившихся документов неизвестно о его тогдашнем экономическом статусе: заработке, банковских вкладах, недвижимости, убранстве, величине его квартиры и пр. Иначе говоря, он двигался по социальной лестнице вверх, реализуя на практике возможности вертикальной социальной мобильности, которые открывались для индустриального рабочего в годы ускоренной модернизации народного хозяйства.
Революция и Гражданская война 1917–1922 гг. обесценили его прежние достижения. С.П. Мартыненко заново начал делать уже советскую карьеру. Его выбрали в городской совет, приняли в ряды РСДРП(б), доверили руководство исполкомом. Если февральскую революцию в провинцию принес телеграф, то октябрьская революция «прибыла» в Керчь в январе 1918 г. на сетевом заградителе «Аю-Даг»6, «команда которого была инициатором переворота» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 5). В городе был создан ревком, в состав которого позвали бывшего участника революции 1905 г. авторитетного в рабочей среде С.П. Мартыненко. У него была репутация человека рассудительного и разумного. Во всяком случае, Мартыненко выступил в роли посредника между прибывшими из Феодосии красногвардейцами, желавшими устроить в городе резню буржуев, чтобы обезвредить надвигающуюся контрреволюцию, и местными советскими властями . «На самом же деле такой угрозы не было, потому что рабочие и матросы в Керчи целиком поддерживали Совет, а буржуазия была бессильна» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 51). Впрочем, отряды И.Ф. Федько и Живодерова7 не сумели развязать красный террор8.
С.П. Мартыненко в карательных акциях замечен не был, только впоследствии упоминал, что арестовал «... заподозренных в украинстве генерала Трегубова (бывший начальник обороны в Керчи) и инженера Глазунова – либерала, которого в первые дни революции носили на руках после его выступления на митингах» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 6). Поскольку оба арестованных окончили свои дни в эмиграции, арест не завершился расстрелом9.
В Керчи советская власть продержалась недолго. Под давлением немцев С.П. Мартыненко и его товарищам пришлось «драпать на Кубань»10. О последующих событиях в документах есть расхождения. Если верить его товарищу, С.П. Мартыненко был «военно-морским комиссаром г. Керчи и после эвакуации Совета, при вступлении немцев в Крым в 1918 г. ушел последним из Керчи только после того как погрузил и отправил в г. Ейск последний отступающий 2-й Черноморский отряд красногвардейцев, под командой т. Федько и Живодерова. В 1918 г. был добровольцем в Красной Армии на Кубани, где служил пулеметчиком, а затем Председателем Полкового комитета» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 4). По утверждению С.П. Мартыненко, два месяца до ухода на Кубань он выполнял функции вовсе не комиссара, а председателя Военно-морской коллегии при Горсовете, которая «раздавала на руки рабочим оружие, переправляла отдельные партии солдат ушедших с фронта, давала наряды на пароходы, отчасти снабжала этих солдат продовольствием и прочим. Одним словом, это было похоже немного на теперешние Военкоматы» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 6). Скорее всего, никаким комиссаром он не был, все же советские военные комиссары выполняли другие функции, непосредственно связанные со службой в армии. С.П. Мартыненко отрицал и свою службу в Красной армии, утверждая, что был «в партизанских отрядах на Кубани (а не в Красной Армии, как это ошибочно пишет тов. Пучков в своей справке)» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 86).Восемь месяцев спустя он вернулся в Керчь, «не зная, что ее займут белые (иначе побоялся бы приехать домой)» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 86).
После Гражданской войны траектория социальной мобильности С.П. Мартыненко начинается с работы в профсоюзных органах, второстепенных по отношению к партийным и хозяйственным. В новых условиях он делает уже советскую карьеру, несмотря на неприязнь со стороны товарищей, которые проявляли к нему недоверие и характеризовали его «революционную работу в период 1917–1919 гг. с плохой стороны, а именно: как будто я был связан с меньшевиками и проводил их линию, активно участвовал в меньшевистском Горсовете…» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 5). За несколько лет работы в профсоюзе С.П. Мартыненко приобрел репутацию, которая позволила ему в дальнейшем занимать хозяйственные должности: директора завода или заместителя директора. В его характеристике 1923 г. читаем:
«Дисциплинирован, подготовка средняя, выдержанный партийный товарищ, работник уездного масштаба. Является старым профработником с 1905 года, начал свою работу с рядового члена профсоюза и кончая Председателем Окрпрофбюро. Осуществляет фактическое руководство профдвижением округа. Обладает способностью подбирать работников и руководить ими. <…> С работой справляется, обнаруживая большой опыт и профпознания. Пользуется популярностью и авторитетом среди рабочих. <…> Является марксистом-практиком, умеющим ориентироваться в политической обстановке. В настоящем политически устойчив, колебаниям не подвержен. Энергичный и настойчивый работник, владеющий собой. Не склочник и не группировщик. Хороший организатор» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 58).
В конце 1920-х гг. карьера С.П. Мартыненко чуть не оборвалась. Его обвинили в правом уклоне. Ему пришлось оправдываться, занимаясь самокритикой:
«Находясь 13 лет в рядах коммунистической партии, не состоя ни разу нив каких группировках, будучи совершенно согласен и активно все время проводя генеральную линию ЦК партии <…> я не допускал мысли, что мои действия хотя бы бессознательно могут оказаться действиями правого оппортунизма на практике<…>Осуждая свою первоначальную ошибку (ссылка на объективные причины, недоучет внутренних возможностей при исполнении промплана) еще более осуждаю дальнейшее непризнание свое ошибки» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 53).
Рабочее происхождение, ранний партийный стаж и, возможно, знакомство с некоторыми руководящими работниками высшего эшелона позволили С.П. Мартыненко избежать краха. В начале 1930-х гг. его восхождение по социальной лестнице остановилось. Со слов его жены, он ходатайствовал о переводе на строительство пермского предприятия в ГУАП (Главное управление авиационной промышленности наркомтяжпрома) и промышленный отдел ЦК ВКП(б) (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 69). На новом заводе № 19 его карьера продолжилась, но не в должности директора. Здесь его назначили начальником механического цеха. Известно, что директор завода № 19 И.И. Побережский предпочитал самостоятельно отбирать специалистов на завод № 19. Поэтому можно предположить, что С.П. Мартыненко получил назначение на это предприятие по ходатайству И.И. Побережского. Директор нового начальника цеха ценил: командировал на совещание при народном комиссаре обороны, представил к ордену Трудового Красного знамени и к ведомственной награде (О награждении…, 1936). Народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе премировал С.П. Мартыненко легковым автомобилем. В архивно-следственном деле содержится коллективное фото специалистов завода №19 на фоне новенькой машины (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Конверт).
Советская карьера С.П. Мартыненко оборвалась в 1938 г. Он был осужден Особым совещание при наркоме внутренних дел по статье 58 п. 7, 10–11 «за участие в антисоветской троцкистской организации»к восьми годам содержания в лагерях (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 4. Л. 498). Свой срок С.П. Мартыненко отбывал в Мариинском лагерном отделении Сиблага. Находясь в заключении, он работал на оборонном заводе «Рекорд», эвакуированном в этот город во время войны. Со слов С.П. Мартыненко, он был ценным работником завода: «каждый год там несколько раз премировался, считался все время отличником» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 77). После освобождения в 1945 г. С.П. Мартыненко вернулся к своей первоначальной профессии – токаря по металлу: сначала на Мариинском спиртозаводе, а с 1948 по 1950 г. на судозаводе в Гороховце Владимирской области. Если верить его жене, он отказывался от любых административных должностей на судозаводе. «Директор завода не раз предлагал назначить его мастером, даже начальником цеха, но он все отказывался – боялся после всего произошедшего браться за ответственное дело» (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7928. Т. 5. Л. 69).
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что С.П. Мартыненко жил в различных исторических обстоятельствах и в нескольких социальных кругах: в рабочей среде, среди людей «среднего класса» в старой России, в окружении красногвардейцев, в среде инженеров и партийных работников. В партийной характеристике 1923 г. его квалифицировали «марксистом-практиком, умеющим ориентироваться в политической обстановке». В переводе с партийного языка это означало умение быть своим в любом социальном окружении, одновременно не теряя собственного «я». Большевистским языком он овладел, знал, что такое «самокритика», «непримиримость», «бдительность» и пр.
С.П. Мартыненко принадлежал к многочисленной группе так называемых «инженеров -практиков» – людей с низким уровнем образования, но с большим производственным опытом. Выходец из пролетарских низов, он сделал хорошую карьеру в дореволюционной России, как тогда говорили, «выбился в люди»: заведовал маленькой фабрикой, выполнял конструкторские функции – сейчас уже не узнать, какие именно, во всяком случае, умел читать чертежи, вносить в них какие-то усовершенствования и пр. Революция и Гражданская война остановили на время его социальный рост, заставили вернуться к станку, затеряться среди рабочего люда. С.П. Мартыненко был в красном лагере, но не в его боевых порядках. С началом НЭПа он возобновил путь наверх, но уже по новым – большевистским – правилам: сперва как профсоюзник, затем как хозяйственник.
Список литературы "Не склочник и не группировщик. Хороший организатор": казус С. П. Мартыненко
- Алданов М. Фукье -Тенвиль//Алданов М. Очерки. М.: Новости, 1995. С. 241-277.
- Бобков А.А., Бутовский А.Ю. Россия, Украина и Крым. Причины и особенности т.н. Украино-Крымской войны 1918 г. URL: http://www.btula.ru/fullbrend_594.html/(дата обращения: 11 03 2017).
- Бойм С. Как сделана «советская субъективность»?//AbImperio. 2002. №3. С. 285-296.
- Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2004. 560 с.
- Зарубин В. Г. Проект «Украина». Крым в годы смуты (1917-1921 гг.). Харьков: Фолио, 2013. 379 с.
- Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком/перев. Л. Могильнер//Ab Imperio. 2002. № 3. С. 217-261.
- Казанков А.И. Время местное: хроники провинциальной повседневности: монография Пермь: Изд-во Перм. гос.ин-т культуры, 2016. 163 с.
- Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. 544 с.
- Куликов В. Керчь. Предприятия. URL: http://cities.blacksea.gr/ru/kerch/4-1-5/(дата обращения: 11 03 2017).
- Лейбович О.Л. Исповеди, проповеди и разоблачения на партийных собраниях 1936 -1938 годов//Вестник Пермского университета. История. 2015. №3. С. 160-168.
- Лейбович О. Л. Охота на красного директора: монография. Пермь: ИЦ «Титул», 2017. 316 с.
- Маршак С. Собрание сочинений в 8 т./под ред. В.М. Жирмунского и др. М.: Худож. лит., 1972. Т. 8. 607 с.
- Михайлов Л. А. Керчь -двадцать шесть веков. URL: http://www.vkerchi.com.ua/ruska/viewtopic.php?p=77944#p77944 (дата обращения: 01.03.2017).
- Политические партии России: история и современность/под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. Ю.П. Свириденко, проф. В.В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 2000. 631 с.
- Ремпель Л.И. Красная Гвардия в Крыму. Симферополь: Крымиздат, 1931. 106 с.
- Россия: Энциклопедический словарь. Л.: Лениздат, 1991. 922 с.
- Смирнов А. П. Командарм И. Федько. Симферополь: Крымиздат, 1959. 122 с.
- Тарас А.Е. Корабли российского императорского флота 1892-1917 гг. М.: Библиотека военной истории, 2000. 396 c.
- Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Летний сад, 2002. 472 с.
- Шапиро Л. Коммунистическая партия Советского Союза/пер. с англ. Firenze: Aurora, 1975. 973 с.
- Balandier G. Essai d'identification du quotidien//Cahiers internationaux de sociologie. 1983 Vol. 74, janvier-juin. P. 5-12.
- Gårdlund T. Bolinders. En svensk verkstad. Till 100-årsminnet av J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstads grundande. Stockholm: A. B. Bolinder-Munktell -Bolinders Fabriks A.B., 1945.
- Halfin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge: Harvard University Press, 2003. 366 p.
- Harrison R. W. Architect of Soviet victory in World War II: the life and theories of G.S. Isserson/foreword by D. M. Glantz. North Carolina; London: McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, 2010. 403 p.
- Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Cambridge: Harvard University Press, 2006. 436 p.